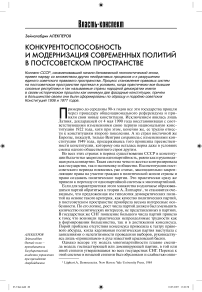Конкурентоспособность и модернизация современных политий в постсоветском пространстве
Бесплатный доступ
Коллапс СССР, ознаменовавший начало беловежской геополитической эпохи, привел наряду со множеством других необратимых процессов и к разрушению единого советского правового пространства. Процесс становления правовых систем на постсоветском пространстве протекал в условиях, когда практически все бывшие союзные республики и так называемые страны народной демократии имели в своем историческом прошлом как минимум две фасадные конституции, причем в большинстве своем они были сформированы по образцу и подобию советских Конституций 1936 и 1977 годов.
Короткий адрес: https://sciup.org/170169128
IDR: 170169128
Текст научной статьи Конкурентоспособность и модернизация современных политий в постсоветском пространстве
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬИ МОДЕРНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИТИЙВ ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Коллапс СССР, ознаменовавший начало беловежской геополитической эпохи, привел наряду со множеством других необратимых процессов и к разрушению единого советского правового пространства. Процесс становления правовых систем на постсоветском пространстве протекал в условиях, когда практически все бывшие союзные республики и так называемые страны народной демократии имели в своем историческом прошлом как минимум две фасадные конституции, причем в большинстве своем они были сформированы по образцу и подобию советских Конституций 1936 и 1977 годов.
П римерно до середины 90-х годов все эти государства прошли через процедуру общенационального референдума и приняли свои новые конституции. Исключением явилась лишь Латвия, декларацией от 4 мая 1990 года восстановившая с соответствующими изменениями свою первую национальную конституцию 1922 года, хотя при этом, конечно же, ее трудно отнести к конституциям второго поколения. А из стран восточной же Европы, пожалуй, только Венгрия сохранила с изменениями конституцию 1949 года, придерживаясь того принципа преемственности конституции, которому она осталась верна даже в условиях смены одного общественного строя другим.
Во всех этих странах в период существования СССР в конституции была четко закреплена однопартийность, равно как и руководящая роль компартии. Такая система четко и жестко контролировала как государство, так и экономику и общество. В конституциях постсоветского периода появились уже статьи, законодательно закрепляющие права на участие граждан в политической жизни страны и право создавать политические партии. Это практически сразу же привело к переходу от однопартийной системы к многопартийной.
АЛЕКПЕРОВ Зейналабдин Октай-оглы – преподаватель Государственной академии управления при президент е Азербайджана
Если для характеристики этого множества в одночасье образовавшихся партий обратиться к теории А. Липхарта1, то становится очевидным, что предложенная им типология демократических поли-тий на основе такого критерия, как качество политических партий, в постсоветском пространстве приобрела весьма интересные особенности. По его логике, рост числа партий должен был уменьшить количество политических интересов, не представленных в партиях. В государствах же СНГ появление большого числа партий привело к тому, что возникли практически непреодолимые трудности как в формировании большинства, так и в достижении консенсуса. Порой проблема отсутствия консенсуса приводила к театру правового абсурда, когда карликовая политическая партия выступала с заявлениями о нелегитимности проведения выборов, руководствуясь лишь «принципами» в духе известной крыловской басни.
Однако вскоре эту модель многопартийности плавно сменила модель господствующей или доминирующей партии, в той или иной степени утвердившаяся во всех государствах СНГ. Переход к этой системе в немалой степени был обусловлен и слабостью оппо- зиции, характерной для всего постсоветского пространства. При всех недостатках этой системы именно ее стабильность и предсказуемость предопределили успех непосредственно в этом политическом пространстве на современном этапе.
Появление доминирующей партии сразу сделало востребованной некую партийную идеологию как новый или скорее обновленный набор популярных и популистских идей, позволяющих партии расширить свое влияние, реализовать мобилизационную стратегию и привлечь максимальное число сторонников.
За исключением России все образовавшиеся после развала СССР государства фактически являются государствами-нациями. В то время как исследователи все больше говорят о «кризисе наций-государств», видимо, в постсоветском пространстве еще долго будут господствовать политические факторы, стремящиеся сполна реализовать эту модель, прежде чем делегировать часть своих функций каким-то иным структурам.
Во всех этих странах идет интенсивный поиск национальной самоидентификации в изменившейся картине мира. Сегодня все они, являясь фрагментами развалившейся супердержавы и по-прежнему обладая многими общими чертами, стремятся осознать и артикулировать свою роль и место в мире, учитывающем реалии современности.
Вызов, адресованный ходом истории бывшим союзным республикам и испытывающий их способность сохранить себя в качестве суверенных, конкурентоспособных в современном мире государств, оказывается во многих отношениях достаточно сложным.
При всем разнообразии особенностей, присущих каждому из появившихся в 1991 году «постсоветских» государств, можно с уверенностью говорить как минимум о трех общих признаках, предопределяющих азимут их политического развития по меньшей мере в среднесрочной перспективе:
– национально-территориальный принцип построения СССР, в рамках и вследствие которого «государствообразующий этнос» союзной республики объявлялся социалистической нацией;
– тщательно селекционированная по единым, «союзным» образцам советская элита, равно укорененная как в московском политическом распорядке, так и в традициях и культуре своей республики.
При этом отдельные флуктуации и появление в среднем, а порой и в высшем звене руководства новоиспеченных выпускников Гарварда или Кембриджа никоим образом не влияет на картину в целом;
– отсутствие (или в лучшем случае лишь рудиментарная фаза развития) политической контрэлиты, способной на момент обретения независимости сколько-нибудь полновесно артикулировать альтернативы национального развития.
Часто встречающееся в литературе утверждение, будто проблема национальной идентификации у 14 новых государств оказалась проще по сравнению с РСФСР и была решена в рамках этнонационализма, «этноцентричности», этнократии и тому подобных технологий и идеологий, тоже вряд ли выдерживает сегодня критику. Конечно, определенные элементы политики, опирающиеся на этническое самосознание как на главный элемент национальной или государственной самоидентификации, были поначалу заметны практически во всех бывших союзных республиках, ставших независимыми странами. Но было бы по меньшей мере неестественно, если первая реакция на суверенитет оказалась бы иной, особенно учитывая перечисленные черты политического устройства союзных республик, которые продолжали оставаться действующими, но в условиях краха идеологии, скреплявшей Советский Союз.
Именно в силу этого проблема обретения надежного фундамента суверенной самоидентификации и выбора перспективной политии вырастает перед странами, входившими в СССР, достаточно остро, а исторический период, проведенный в составе единого государства, непреложно задает общий контекст поиска при всех упомянутых отличиях. Во всех этих поисках политическая элита volens nolens вынуждена рассматривать проблему равенства и неравенства политий.
Политическая коррупция как отдельная проблема ведет к дискредитации политии, на которой она паразитирует, в частных случаях это может приводить к дисбалансу доверия к политическим институтам, когда им пользуются только антикоррупционно направленные организации1.
Что касается «потери лица», то эта проблема стоит даже перед такими динамично развивающимися экономическими гигантами, как КНР и Индия. Последовательное принятие этими странами в качестве модели образцов западной массовой («популярной») культуры, поклонение миллионов граждан западным «звездам» не раз становились предметом серьезной озабоченности представителей элит этих государств.
Культура задает формы и способы коммуникации и, следовательно, при массовой трансформации культурных моделей неизбежно меняется коммуникационная система, нарушается преемственность каналов обмена информации масс и элит. В этой связи, по-видимому, не случайно появление «восточных по форме, но западных по ценностному содержанию» продуктов популярной культуры, предназначенных не только для внешнего рынка.