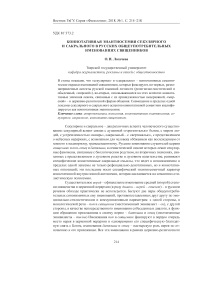Коннотативная энантиосемия секулярного и сакрального в русских общеупотребительных именованиях священников
Автор: Логачева Оксана Ивановна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Голоса молодых исследователей
Статья в выпуске: 1, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье показано, что «секулярное» и «сакральное» – коннотативные семантические окраски именований священников, которые фиксируют, во-первых, разнонаправленные аспекты русской языковой личности (религиозно-мистический и обыденный, «мирской»), во-вторых, основывающиеся на этих аспектах коннотативные значения лексем, связанные с их принадлежностью нецерковной, «мирской» – и церковно-религиозной сферам общения. Совмещение в пределах одной лексемы секулярного и сакрального аспектов коннотативной семантики квалифицируется как коннотативная энантиосемия.
Антропонимика, полисемия, коннотативная энантиосемия, секулярное, сакральное, именования священников
Короткий адрес: https://sciup.org/146278397
IDR: 146278397 | УДК: 81’373.2
Текст научной статьи Коннотативная энантиосемия секулярного и сакрального в русских общеупотребительных именованиях священников
Секулярное и сакральное – два различных аспекта человеческого существования: секулярный аспект связан с душевной «горизонталью» бытия, с миром людей, с устремленностью «вширь», сакральный – с «вертикалью», с представлением о небесных иерархиях, с возможным для человека обóжением как восхождением от земного к надмирному, трансцендентному. Русские именования служителей церкви священник и поп , отец и батюшка , в семантической основе которых лежат секулярные феномены, связанные с биологическим родством, во вторичных значениях, связанных с представлением о духовном родстве и духовном водительстве, развивают специфические коннотативные сакральные смыслы, что ведет к возникновению в пределах одной лексемы не только рефенциально-денотативных, но и коннотативных оппозиций; эти последние носят специфический энантиосемичный характер коннотативной внутрисловной антонимии, которая наслаивается на семантико-стилистическую полисемию.
Существительное иерей – официальное именование средней (второй) степени священства в церковной иерархии (в ряду диакон – иерей – епископ) – в русском речевом обиходе практически не используется. Бытуют две пары общеупотребительных синонимичных ему именований, противопоставленных друг другу по эмоционально-стилистическим и коммуникативным параметрам: с одной стороны, в монологической речи – поп и священник (местоименный эквивалент – он), с другой стороны, в качестве непосредственного именования собеседника в диалоге, в функции обращения прихожанина к своему иерею – батюшка и отец (местоименные эквиваленты – ты/вы) Именования поп и священник фиксируют в первую очередь место иерея в церковной иерархии и одновременно его специфическую благодатную связь с Богом, именования батюшка и отец – пастырскую роль иерея по отношению к его прихожанам. Все эти именования в рамках церковно-религиозного дискурса несут сакральные смыслы, которые условно можно обобщить в обиходной характеристике «священнослужитель, силой благодати способствующий общению мирян с Богом».
Судьбы этих двух пар лексем в церковно-религиозной составляющей кон-цептосферы русского языка на протяжении XIX–XXI вв. существенно различаются. В теоцентрической лингвокультурологии принято, что эволюционные процессы в сфере религионимов трактуются на основе понятий «десакрализация» / «ресакрализация», которые понимаются как «утрата / возвращение сакральных религиозных смыслов и коннотаций» [3, с. 272]. Возвращение к исходному коннотативно-сакральному прочтению именований священников требует особого мужества признания, что именно религиозность – основополагающая черта русского национального характера [6].
Если поп и священник подвергались в общенародном (не специально церковном) словоупотреблении сначала в революционно-демократический, затем в советский периоды воинствующего атеизма деструктивной десакрализации, а ныне постепенно ресакрализуются, то батюшка и отец – лексемы, в своих специфических значениях бытующие исключительно в церковном обиходе, – по своим функциям практически не изменились.
В современном церковно-религиозном дискурсе батюшка в ситуации обращения к священнику квалифицируется как «обиходное», что связано с определенным отождествлением биологического и духовного родителя. Коннотация близкородственной, кровной теплоты, связанная как с корневым сущ. батя , так и с ласк. суф. - юшк(а) , сохраняется во вторичном значении – в обращении к священнику. Диакон А. Кураев разъясняет: «…нет кощунства в именовании священника ”батюш-кой” и ”отцом”. Человек должен понимать, что единственный источник его жизни – в Боге. И именно в этом смысле православие понимает слова Христа ”И отцом себе не называйте никого на земле: ибо один у вас Отец, который на небесах” (Мф. 23, 9) <…> Никого нельзя понудить обращаться к тому или иному человеку со словом ”отец”… Но и нельзя запретить проявления любви, нельзя запретить брата называть братом и духовного отца – батюшкой…» [8, с. 67–68].
Отец в исходном значении – секулярная, стилистически нейтральная лексема, реализующая значение «мужчина по отношению к своим детям», батюшка – его традиционно-народный синоним, воспринимающийся ныне за пределами церковного дискурса как устаревший, ср. словарные данные: батя – «родитель, отец… батюшка … ׀׀ отец духовный, поп», почтительное обращение к «всякому стороннему человеку», в том числе и священнослужителю [7]; « Батюшка … 1. Отец (с оттенком почтительности; устар.). <…> 2. Священник (с оттенком вежливости, у верующих)» [13]. В церковной среде обращение батюшка строго регламентировано: так с уважением и почтением обращаются к священнослужителям их духовные чада или прихожане в неформальной обстановке [1].
Отец в сакрализованном церковно-религиозном дискурсе – это прежде всего Бог Отец , первая ипостась Святой Троицы, далее – «духовный пастырь». Значение «Бог Отец» – терминологизированное, ассоциируется, во-первых, с теологией как наукой, во-вторых, с богословием как «Законом Божиим», как общедоступным изложением теологического знания; значение «пастырь» связано с повседневной внутрицерковной жизнью. Лексема батюшка синонимизируется с отец лишь в этом втором церковно-религиозном значении, выступает как его разговорный эквивалент.
Исходное секулярное и вторичное сакральное значения лексем отец и батюшка связаны представлением о «водительстве»: в случае отец1 – это «водительство по жизни в целом», в случае отец2 – «водительство духовное, по пути спасения». Сакральный компонент семантики именований священников обусловливается их специфической «посреднической» церковной ролью между прихожанами и Господом, наиболее наглядной в таинствах Церкви (с заглавной буквы, как «мистического соединения всех верующих в Богом (Церковь как «Тело Христово»)» [12, с. 406], секулярный компонент – с их принадлежностью церкви как социальному институту (то есть церкви – с маленькой буквы).
Эта полисемия: Церковь как «Тело Христово» и церковь как социальный институт – в условиях десакрализации утрачивается, в общенародном языковом сознании и в повседневном словоупотреблении актуализованным оказывается лишь второе из этих значений – «социальный институт», что ярко проявляется в коннотативной энантиосемии существительного поп .
Коннотативную энантиосемию лексемы поп можно назвать «мерцающей»: она то актуализуется, то нейтрализуется в разные периоды истории в разных типах дискурса, в речи отдельных социальных групп и даже отдельных лиц в разных ситуациях общения в зависимости от соотношения в ней сакрального и секулярного компонентов.
Семантико-стилистическая история существительного поп хорошо отражает изменения в отношении русских людей к духовенству. До развития атеистического движения и распространения атеистически-нигилистических настроений в России существительное поп не имело отрицательной коннотативной окраски; восходящее, как и именование верховного главы католической церкви папа , к др.-гр. pappas ‘папа, батюшка’, оно было общепринятым именованием священника, ср.: «Епископов, и попов, и игуменов (чтите), с любовью принимайте от них благословление, и не отстраняйтесь от них…» [11, с. 50]; у В. И. Даля: « ПОП м. а стар. иногда попин , священник, иерей, пресвитер; человек поставленный, посвященный, помазанный, рукоположенный в духовный чин или сан пастыря душ. Черный поп , стар. иеромонах. Поп, папа , конечно, общего корня, отец; поминается у нас впервые в Песнословии Пророков, 1047 г.» [7]. Без каких-либо негативных коннотаций поп используется в богослужебных книгах (как синоним сущ. священник, иерей, пресвитер ), в художественной литературе вплоть до рубежа XIX–ХХ вв.
Однако отношение к священству в России до 1917 года зависело не только от основной духовно-пастырской роли «батюшек», но и от государственного статуса священнослужителей («попов»), который «определялся отнюдь не профессиональной значимостью и не личными достоинствами проповедника, а самой природой церковно-государственного альянса» [9, с. 43]. Духовенство в глазах атеистически и нигилистически, «революционно-демократически» настроенной интеллигенции ассоциировалось с институциональной государственной властью, которая якобы нацелена исключительно на «угнетение». Священнослужители нередко оказывались не в сфере живого церковного богообщения, но в мертвом пространстве социального непонимания между, с одной стороны, властью (церковной и светской), с другой стороны, «обществом» и прихожанами. С одной стороны, поп – это именно «пастырь душ», его назначение – «пасти», то есть давать пищу (слово Божие), идти впереди, указывая духовный путь, хранить единство людей, защищать их от врага и подавать пример; с другой стороны, поп страдает различными нравственными недугами (брать, заботясь только о личном обогащении, обманывать, покрывать грехи и т. д.).
В послереволюционной России после появления Декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви государственная и церковная власть перестали отождествляться, однако коммунистическая идеология, претендующая на абсолютную духовную власть над гражданами, настойчиво требовала создания негативного образа священнослужителей. Существительному поп настойчиво навязывалась окраска «презрительное», что нашло отражение и в словарях того времени. Так, М. Фасмер в своем словаре 1950-х гг. фиксирует, что поп «в настоящее время имеет презрительный оттенок значения» [15, с. 326], аналогично в словаре под редакцией Д. Н. Ушакова: « Поп … 1. Священник (разг., в старину – официальное название). <…> Вообще – служитель культа всякого ранга (разг. пренебр.) || только мн., собир. Духовенство (разг. пренебр.)» [14, с. 584].
Подведём итоги. Существенные изменения коннотативного, особенно энан-тиосемического ореола выступают как лингвокультурный сигнал «фазовых переходов» в различных фасетах концептосферы русского языка (например, в сфере представлений о политических или экономических феноменах: [4; 5]). В советский период отечественной истории, по словам Н. А. Бердяева, «идеологи коммунизма <…> низвергли религию, философию, мораль, отрицали дух и духовную жизнь» [2, с. 26]. За именованиями священнослужителей закреплялась неодобрительная, уничижительная окраска. В современных условиях духовного возрождения России, постепенного возвращения православных россиян к Церкви происходит возвращение к исходной коннотативной двойственности: фамильярно-иронической в попе и почтительно-уважительной в батюшке . Возвращается понимание, что священник, хотя «может быть и слаб, и немощен, и иметь множество недостатков, но через него действует Христос» [10, с. 152], который для верующего и строгий отец , и любящий батюшка .
Tver State University
Department of Journalism, Advertising and Public Relations
Список литературы Коннотативная энантиосемия секулярного и сакрального в русских общеупотребительных именованиях священников
- Балашов В., свящ. Жизнь в церкви. Священник: старший среди равных или наемный посредник? //Киевская Русь. URL: http://www. kiev-orthodox.org/site/churchlife/1743. (Дата обращения: 22.04.2017.)
- Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Наука, 1990. 224 с.
- Волков В. В. Коннотативная энантиосемия религионимов и семантически смежных лексем как лингвокультурный сигнал «фазового перехода» в пространстве религиозного сознания//Ономастика Поволжья: Материалы XIV Международной научной конференции. Тверь: Тверской гос. ун-т, 2014. С. 272-276.
- Волков В. В. Лингвокультурные сигналы «фазовых переходов» в системе обыденных представлений о политических феноменах//Современные исследования социальных проблем. 2014. № 3 (19). С. 48-64.
- Волков В. В. Экономические концепты, ментальность россиян и катастрофа приватизации//Жанр. Стиль. Образ: Актуальные вопросы современной филологии: межвузовский сборник статей. Киров: Изд-во ВятГУ, 2014. С. 230-239.
- Волков В. В., Волкова Н. В. «Ренессанс русской литературы»: национальный менталитет и литература духовного реализма в преподавании русской словесности//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2017. № 3. С. 147-157.
- Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. //Руниверс. URL: http://www.runivers.ru/lib/book3178/. (Дата обращения: 13.12.2017.)
- Кураев А., диакон. Почему священника зовут «батюшкой»//Все ли равно, как верить?/Сб. ст. по сравн. богословию. М.: Изд-во Братства Святителя Тихона, 1994. 176 с.
- Леонтьева Т. Жил-был поп…//Родина. 1999. №11. С.43-45.
- Мень А. Никео-Цареградский Символ веры: Беседы для готовящихся к крещению. Беседа пятая//Мень А. Радостная весть: Лекции. Вып. 1. М.: Вита-Центр, 1992. 320 с.
- Поучение Владимира Мономаха//Хрестоматия по древнерусской литературе/Сост. А. Н. Ужанков. М.: Русский язык, 1991. С. 46-51.
- Скляревская Г. Н. Словарь православной церковной культуры. СПб.: Наука, 2000. 447 с.
- Словарь русского языка: В 4 т./Под ред. А. П. Евгеньевой //MirKnig.Su. URL: http://mirknig.su/knigi/guman_nauki/63775-slovar-russ-kogo-yazyka-v-4-tomah-tt1-4-2-e-izd-e.html. (Дата обращения: 13.09.2017.)
- Толковый словарь русского языка: В 4 т. Т. 3./Под ред. Д. Н. Ушакова. М.: Рус. словари, 1994. 1424 стб.
- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. Т. 3 М.: Прогресс, 1987. 832 с.