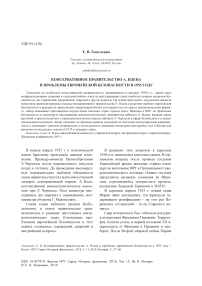Консервативное правительство А. Идена и проблемы европейской безопасности в 1955 году
Автор: Хахалкина Елена Владимировна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Всеобщая история
Статья в выпуске: 8 т.15, 2016 года.
Бесплатный доступ
Тенденции на ослабление международной напряженности, проявившиеся в середине 1950-х гг., давали двум конфронтационным сторонам в «холодной войне» шанс на урегулирование таких наиболее спорных вопросов безопасности, как германский, австрийский, саарский и другие вопросы. На основе британских документов кабинета министров проанализированы подходы консервативного правительства А. Идена к решению проблем европейской безопасности и реакция на продолжение западноевропейской интеграции шести стран в наднациональном формате. Автор показывает противоречия внутри блока западных стран, прежде всего, Франции и ФРГ, по проблемам безопасности и анализирует выстраивание внешнеполитических приоритетов кабинета А. Идена, выявляя черты различий и преемственности с внешнеполитическим курсом кабинета У. Черчилля в сфере безопасности и наднациональной интеграции. Автор указывает на причины провала тенденций на смягчение международной напряженности и показывает значение конференции и последующего совещания министров иностранных дел в Женеве для развития последующего диалога СССР и западных стран.
А. иден, европейская безопасность, германский вопрос, австрийский вопрос, саарский вопрос, женевская конференция 1955 г.
Короткий адрес: https://sciup.org/147219656
IDR: 147219656 | УДК: 94
Текст научной статьи Консервативное правительство А. Идена и проблемы европейской безопасности в 1955 году
В начале апреля 1955 г. в политической жизни Британии произошли важные изменения. Премьер-министр Великобритании У. Черчилль после перенесенного инсульта подал в отставку. До проведения внеочередных парламентских выборов обязанности главы правительства стал выполнять ставший лидером консервативной партии А. Иден, возглавлявший внешнеполитическое ведомство при У. Черчилле. Пост министра иностранных дел перешел к занимавшему пост министра обороны Г. Макмиллану.
Смена главы кабинета прошла безболезненно, и новое правительство сразу включилось в решение неотложных внешнеполитических задач. Ключевыми проблемами европейской безопасности в этот период оставались германский, саарский и австрийский вопросы.
В решении этих вопросов в середине 1950-х гг. наметились заметные сдвиги. В германском вопросе после провала создания Европейской армии западные страны взяли курс на включение ФРГ в Организацию Североатлантического договора. Однако эта идея продолжала вызывать сомнения во Франции, стремившейся затормозить процесс вхождения Западной Германии в НАТО.
В середине апреля 1955 г. новый глава Форин офис докладывал, что французы задерживают ратификацию – на этот раз Парижских соглашений – из-за Саарского вопроса.
Саар исторически был «яблоком раздора» в отношениях Франции и Германии. Территория, богатая углем, в первой половине XX в. переходила от Франции к Германии и наоборот. После Второй мировой войны Париж
Хахалкина Е. В. Консервативное правительство А. Идена и проблемы европейской безопасности в 1955 году // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2016. Т. 15, № 8: История. С. 57–66.
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2016. Том 15, № 8: История © Е. В. Хахалкина, 2016
стремился вновь установить полноправный контроль над этой стратегически важной территорией. Однако этим французским попыткам противостояла ФРГ в лице федерального канцлера К. Аденауэра.
Еще 23 октября 1954 г. Франция и ФРГ в рамках Парижских соглашений заключили соглашение «Мендес-Франс-Аденауэр», предоставлявшее Саару «европейский статут в рамках Западноевропейского союза». Подписанное соглашение предусматривало проведение год спустя, 23 октября 1955 г., плебисцита в Сааре по определению статуса территории.
Достижение этих договоренностей не устранило противоречий двух стран по спорному вопросу.
В конце марта 1955 г. французский парламент все же ратифицировал Парижские соглашения, а 23 октября 1955 г. состоялся референдум в Сааре, отклонивший большинством голосов соглашение «Мен-дес-Франс-Аденауэр».
В британском правительстве считали, что Франция, как и в случае с Договором о создании Европейского оборонительного сообщества (ЕОС), вновь выступает «тормозом» на пути урегулирования вопросов безопасности. Г. Макмиллан при обсуждении этого вопроса в кабинете министров выражал надежду, что Франция все-таки ратифицирует Парижский договор, и членство ФРГ в НАТО, в котором была заинтересована Британия, станет возможным 1.
После серии очередных переговоров 27 октября 1956 г. Франция и ФРГ подписали новые соглашения о Сааре, среди них – Договор о возвращении территории Саара в состав Западной Германии с 1 января 1957 г. Саар с этого времени становился политически частью ФРГ, и начался трехлетний период включения этой территории в западногерманскую экономику [Молчанов, 1958. С. 236–274].
Между тем на повестке дня оставался австрийский вопрос, по которому западные страны и СССР долгое время не могли найти компромисс.
Первоначальные планы СССР в отношении Австрии после Второй мировой войны предусматривали укрепление позиций австрийских коммунистов. Однако они потерпели поражение на выборах в ноябре 1945 г., набрав только 5,2 % голосов. Последующие попытки СССР усилить позиции австрийских коммунистов и других левых сил не дали результатов, и на выборах 1953 г. они вновь проиграли, похоронив надежды советского руководства превратить Австрию в страну народной демократии.
Еще в 1946 г. западные страны инициировали дискуссии по вопросу заключения мирного договора с Австрией. У советского руководства этот вопрос вызывал неоднозначную реакцию. С одной стороны, вывод войск западных стран из австрийского государства после заключения Государственного договора означал бы и уход советских войск. С другой стороны, советские вооруженные силы в Австрии служили юридическим обоснованием сохранения войск на территориях Венгрии и Румынии, находившихся там по условиям перемирия 1944–1945 гг. [Mueller, 2006].
В феврале 1947 г. были подписаны мирные договоры с Венгрией и Румынией, по которым советские войска оставались на территориях указанных стран для поддержания коммуникационных линий с советскими силами в Австрии (Ч. IV, ст. 21). После событий в ГДР в июне 1953 г. 2 советские лидеры еще более неохотно, чем раньше, рассматривали идею заключения мирного договора с Австрией, опасаясь последующего за этим вывода войск из Венгрии и Румынии.
По свидетельству известного дипломата А. Ф. Добрынина, министр иностранных дел В. М. Молотов считал, что вывод советских войск из Австрии значительно ослабит позиции СССР в центре Европы и лишит Москву немалой доли ее завоеваний в итоге Второй мировой войны [Добрынин, 2008. С. 28]. Решение австрийского вопроса затягивалось.
В апреле 1955 г. глава Форин офис сообщал на заседании кабинета, что советское руководство в ходе недавнего визита австрийской делегации в Москву, вопреки прогнозам западных экспертов, согласилось завершить военную оккупацию Австрии и заключить Государственный договор 3.
Г. Макмиллан считал, что в реальности за этим согласием Москвы скрывалось желание предложить объединение Германии на схожей с австрийским вариантом основе военного нейтралитета. В свою очередь, британское правительство считало важным оформить австрийский нейтралитет таким образом, чтобы страна имела возможность войти в состав Совета Европы и Организацию европейского экономического сотрудничества (ОЕЭС), не имевших военных целей. Моделью для австрийского суверенитета в Форин офис считали Швецию.
В начале мая парламент Нидерландов вслед за остальными странами одобрил Парижские соглашения, и они вступили в силу. Пятого мая ФРГ становится независимым государством.
Седьмого мая в Париже открылась специальная сессия НАТО, оформившая включение ФРГ в состав Североатлантического пакта. В этот же день СССР денонсировал англо-советский союзный договор 1942 г. и франко-советский договор о союзе и взаимопомощи 1944 г.
Значимость этих двух договоров в послевоенное время во многом носила символический характер, напоминая о возможности сотрудничества стран с разными политическими системами и геополитическими интересами. Отказ от договоров означал борьбу двух тенденций в этот период – на ослабление международной напряженности и ужесточение позиций сторон по вопросам европейской и мировой политики.
В польской столице 11–14 мая 1955 г. проходило Совещание европейских государств по обеспечению мира и безопасности в Европе. В ходе встречи участники – Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния,
СССР и Чехословакия – заключили Договор о дружбе и взаимопомощи, положивший начало существованию Организации Варшавского договора (ОВД). Создание ОВД стало реакцией Советского Союза на включение ФРГ в НАТО и позволяло Москве не выводить свои войска из Венгрии и Румынии. Тем самым одна из преград к заключению договора с Австрией была устранена.
Пятнадцатого мая 1955 г. в Вене был подписан Государственный договор. Советский Союз настоял на включении в текст договора положений, запрещающих новый аншлюс Австрии Германией, и выражал согласие вывести из Австрии оккупационные войска к 31 декабря 1955 г.
Подписанный договор регулировал также вопросы о вооруженных силах, о военнопленных, репарациях и германских активах в австрийском государстве [Айрапетов, Горлова, 2006. С. 68]. Австрия восстанавливалась как суверенное, демократическое государство в границах на 1 января 1938 г. Договор вступил силу 27 июля 1955 г. В конце октября Национальный совет принял конституционный закон о постоянном нейтралитете страны.
Таким образом, тенденции к разрядке международной напряженности, обозначившиеся после смерти И. В. Сталина в марте 1953 г., спустя два года все-таки привели к решению долгое время стоявших на повестке дня вопросов, при этом британское видение ситуации, как показывают обсуждения в кабинете министров, заметно отличалось от настроя прежнего премьер-министра У. Черчилля, в мае 1953 г. озвучившего идею о начале диалога двух сторон – СССР и западных стран, посредством проведения саммита и поиска возможностей для компромисса с Москвой.
Эта позиция У. Черчилля, враждебность которого к СССР была хорошо известна, шла вразрез не только с его прежними представлениями о возможностях диалога с советской стороной, но и с устремлениями его ближайших коллег по партии, включая преемника А. Идена.
Досрочные парламентские выборы в Британии состоялись 26 мая 1955 г. Консерваторы во главе с А. Иденом одержали убедительную победу, увеличив свое пред- ставительство в Палате общин на 23 депутата по сравнению с прежними выборами до 344 чел. против 277 мест у лейбористов и 6 мест у либералов.
Правительство А. Идена, сформированное по итогам выборов, проигнорировало приглашение на встречу стран Европейского объединения угля и стали (ЕОУС) или так называемой Шестерки – Франции, ФРГ, Бельгии, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга – в Италии. Первого июня 1955 г. открылась конференция в Мессине, на Сицилии, в ходе которой обсуждались дальнейшие пути интеграции.
В Британии эту конференцию не рассматривали как имеющую судьбоносное значение для страны или всей Европы. Скорее наоборот, А. Идена в этот период гораздо больше занимали проблемы Ближнего Востока – традиционной сферы преимущественных интересов Великобритании.
Однако вопреки расчетам британской дипломатии, конференция в Мессине заложит основы для будущего Европейского союза, став этапным событием на пути продолжения интеграции после громкого провала проекта ЕОС. Главный идеолог европейской интеграции Ж. Монне к началу работы конференции оставил свой пост Председателя Верховного органа и создал Комитет борьбы за Соединенные Штаты Европы, пропагандировавший идеи европейской федерации.
Ж. Монне призвал участников к продолжению и углублению наднациональной интеграции. Этот призыв нашел соответствующий отклик, выразившийся в принятии решений о продолжении экономической интеграции и начале объединения в сфере атомной энергетики. Шесть стран начали разработку проектов по созданию экономического сообщества и сообщества по атомной энергии.
Британское правительство, несмотря на отказ от участия в работе конференции, продолжало отслеживать происходящие на континенте процессы. По итогам встречи стран Шестерки в Великобританию было направлено приглашение войти в состав Подготовительного комитета по разработке новых проектов интеграции.
Тридцатого июня 1955 г. этот вопрос стал предметом особого обсуждения на заседании кабинета. Канцлер казначейства Р. Батлер отметил, что Мессинская встреча «предприняла определенные шаги для продолжения экономической унификации в Европе». Однако озвученные на встрече идеи о разработке мирного атома и создании общего рынка Батлер считал несвоевременными. Он полагал, что договор об установлении общего рынка будет дублировать другие соглашения, а учреждение сообщества по атомной энергии чревато «особыми» трудностями. В этой связи канцлер казначейства рекомендовал принять участие в работе комитета только в качестве наблюдателей. Британия при этом не должна, считал он, создавать впечатление у стран ЕОУС, что «мы не одобряем их усилий по продвижению более глубокой экономической интеграции» 4.
Министр иностранных дел Г. Макмиллан, известный своей проевропейской ориентацией, наоборот, считал, что участие Великобритании в намечаемых к созданию организациях нельзя исключать, и, соответственно, Лондону не следует ограничиваться только ролью наблюдателя. Прислушавшись к обеим точкам зрения, А. Иден поручил главе Форин офис и канцлеру казначейства разработать предложения по вопросам британского участия в работе Подготовительного комитета 5.
Ознакомившись с разными мнениями, премьер-министр направил в качестве наблюдателя за работой Подготовительного комитета под председательством П.-А. Спа-ака известного своими симпатиями к модели наднациональной интеграции экономиста Р. Бретертона. Это решение означало, что Лондон не был готов на данном этапе менять свой подход к наднациональной модели и принимать полноценное участие в новых проектах. Британский представитель, работавший в Казначействе, не имел каких-либо полномочий влиять на принимаемые Шестеркой решения и вспоминал впоследствии, как надеялся, что в ходе работы комитета над соглашениями по созданию общего рынка и агентства по атомной энергии британское правительство изменит свое решение. Одна- ко эти надежды так и не оправдались [Lamb, 1999. P. 77, 78].
Исследователи до сих пор неоднозначно оценивают это решение Идена, но очевидно, что на том этапе развития европейской интеграции Соединенное Королевство упустило свой шанс повлиять на конструкцию складывающейся «единой Европы».
Наибольшее внимание британские политики по-прежнему уделяли вопросам безопасности. Четырнадцатого июля 1955 г. члены кабинета выработали общую линию поведения на предстоящих четырехсторонних переговорах глав государств в Женеве 6.
Основой для обсуждения стал «план Идена». Западные державы, считал премьер-министр, должны оказывать на конференции твердое сопротивление «любому давлению русских», в то же время принимая во внимание «сильное желание германского народа о воссоединении двух Германий». В Британии по-прежнему опасались, что СССР может сделать более выгодное предложение Западной Германии и перехватить инициативу в вопросе германского объединения.
Премьер-министр А. Иден напомнил членам кабинета, что в ходе Берлинской встречи 1954 г. советская дипломатия категорически отвергала заключение мирного договора с Австрией, изменив свою позицию всего через несколько месяцев на 180°, выступив с инициативой подписания мирного договора. В дополнение к своему «плану Идена» премьер-министр считал необходимым разработать гарантии, что «объединенная и независимая Германия не будет представлять возросшую военную угрозу для русских». Эти гарантии предусматривали сокращение вооруженных сил в Западной Германии и соседних с нею странах вплоть до демилитаризации части германской территории, чтобы создать буферную зону между Западом и Востоком. Указанные меры Иден рекомендовал дополнить заключением военного пакта, не предполагающего гарантий границ. Также британский премьер намеревался предложить план установления контроля над вооружением посредством заключения пакта или соглашения безопасности под контролем ООН и заключения договора об общем коли- честве сил и вооружений в Германии и соседних странах.
Реакцию Советского Союза на эти предложения, указывал А. Иден, предугадать сложно, учитывая, что новых признаков смягчения советской позиции в германском вопросе пока не наблюдалось.
Г. Макмиллан в ходе обсуждения добавил, что после Женевской конференции осенью должен состояться визит канцлера ФРГ К. Аденауэра в Москву. Если федеральный канцлер «проявит твердость и отвергнет все возможные увертюры русских», советское руководство выразит б о льший интерес к британским предложениям. Следовательно, заключал Макмиллан, если не удастся договориться на предстоящей Женевской конференции, можно попробовать реализовать эти инициативы на совещании министров иностранных дел четырех государств, проведение которого было намечено на октябрь 1955 г. 7
Восемнадцатого июля 1955 г. в Женеве начало работу совещание глав правительств четырех держав, на которых присутствовали президент США Д. Эйзенхауэр, премьер-министр Великобритании А. Иден, премьер-министр Франции Э. Фор и руководители СССР Н. А. Булганин и Н. С. Хрущев. Встреча на высшем уровне предполагала обсуждение германского вопроса, проблем разоружения и укрепления контактов между Востоком и Западом.
Конференция широко освещалась в советской и зарубежной прессе как поворотный момент на пути к разрядке международной напряженности и разрешению острых европейских и мировых проблем.
Тон конференции был задан британским лидером. Уже по прибытии на конференцию премьер-министр А. Иден заявил, что «пока разделена Германия, разделена Европа. Причина, по которой Берлинская конференция завершилась провалом, состоит в том, что одна из держав предположила, что объединенная Германия, вооруженная и решившая вступить в НАТО, будет представлять угрозу миру и безопасности» (Chicago Tribune. 1955. July 19). Настрой главы британского кабинета свидетельствовал о его надеждах на возможность компромисса с Москвой. Такие же надежды питал и президент США Д. Эйзенхауэр [Капитонова, Романова, 2016. С. 467, 468].
Однако именно это предложение – объединение Германии с ее последующим включением в НАТО – вызвало негативную реакцию СССР. Советская делегация предложила к обсуждению свой план – проект Общеевропейского договора о коллективной безопасности в Европе, в рамках которого предполагалось, что по истечении согласованного срока с момента вступления договора в силу прекратят свое действие Варшавский договор, Парижские соглашения и Североатлантический договор.
В связи с тем что конструктивной реакции на эти предложения не последовало (и последовать на тот момент времени не могло), министр иностранных дел В. М. Молотов предложил построить европейскую систему безопасности на следующей основе. НАТО и ОВД сохраняются в силе, при этом участники существующих в Европе военно-политических группировок соглашаются заключить договор об отказе применять вооруженные силы друг против друга и взять на себя обязательства разрешать все споры только мирными средствами [История дипломатии, 1974. С. 459].
Озвученный советской стороной план существенно расходился с предложениями Британии и США. Д. Эйзенхауэр выдвинул идею «немедленного присоединения» ГДР к ФРГ с последующим участием объединенной Германии в системе «коллективной обороны» НАТО. В ответ на эту инициативу советская делегация озвучила ошеломившее президента США предложение о вхождении СССР в Североатлантический альянс. Об этом эпизоде упоминают в мемуарах А. А. Громыко и А. Ф. Добрынин, входившие в состав советской делегации [Громыко, 1990. С. 364, 365; Добрынин, 2008. С. 55].
Двадцать шестого июля премьер-министр докладывал на заседании кабинета о своих первых впечатлениях от Женевской конференции, накануне закончившей свою работу. По вопросам германского воссоединения и европейской безопасности не удалось, констатировал Иден, получить согласие советского руководства с тем подходом, что объе- динение Германии невозможно без создания новой системы коллективной безопасности в Европе. Советское руководство, по мнению премьера, находилось во власти «подлинного страха», что Германия может возникнуть как сильная военная страна в Европе: «Даже если удастся убедить советских лидеров, что возрождения германского милитаризма можно избежать, свобода их маневра на некоторое время будет ограничена инстинктивным страхом населения страны перед Германией. Этот страх, очевидно, так глубоко укоренен, что даже диктатура принимает этот факт во внимание» 8. В ходе конференции у премьер-министра сложилось твердое убеждение, что СССР больше опасается возрождения Германии, чем окружения своей территории базами Соединенных Штатов.
Это впечатление было обманчивым. У советского руководства тревогу вызывала как деятельность Вашингтона по созданию военно-политических блоков, сопровождавшихся созданием военных баз, так и военное усиление ФРГ посредством ее включения в НАТО. Отсылки же к «укорененному у советской диктатуры страху» показывали, что британские политики продолжали исходить из прежних установок в отношении СССР. Такая линия явно расходилась с позднечерчиллевскими представлениями о возможности и необходимости договариваться с Москвой.
Еще одним важным впечатлением от Женевской конференции для Идена стало то, что советские лидеры действительно стремились к установлению «нормальных отношений с правительствами Запада и, кажется, искренне обеспокоены поиском ослабления международной напряженности и более дружественными отношениями с Западом». Такое мнение Идена свидетельствовало о пересмотре им прежних бескомпромиссных убеждений в отношении советской внешней политики. Видимо, находясь под этим впечатлением, еще в ходе конференции А. Иден пригласил Н. А. Булганина и Н. С. Хрущева посетить Великобританию с официальным визитом весной 1956 г.
Г. Макмиллан полностью поддержал мнение премьер-министра, согласившись, что новое советское руководство «в меньшей степени настроено действовать агрессивными методами и, возможно, направит ресурсы на развитие экономики внутри страны». Он также добавил, что хотя Москва больше обеспокоена предотвращением восстановления германской военной мощи, в долгосрочной перспективе СССР может оказаться между «возрожденной Германией и сильным Китаем».
В то же время министр иностранных дел справедливо выразил сомнение, что на совещании министров иностранных дел в октябре стороны достигнут «прогресса в германском вопросе». Макмиллан предположил, что реальное решение может быть достигнуто через «заключение серии пактов безопасности для Европы» 9.
Прошедшая Женевская конференция показывала, что новые политические ветры, подувшие над континентом после смерти Сталина, каждая из сторон стремилась использовать в своих интересах. Стороны были пока не готовы к такому сближению, которое бы привело к значительному пересмотру уже установившихся отношений.
Такой вывод подтверждают планы британского Казначейства о возможностях обсудить на Женевской конференции идею создания всемирной торговой организации. Подобного рода проекты разрабатывались советской стороной, и в Британии полагали, что на Женевской конференции советская дипломатия может поднять такой вопрос. Британские политики не исключали, что в случае успешного обсуждения спорных вопросов эта идея может найти практическое воплощение. Однако дальнейшие дискуссии внутри Казначейства показывали, что Британия не была готова к реальному участию в такой организации. В свою очередь, и Советский Союз в ходе конференции так и не выдвинул такой инициативы [Липкин, 2011. С. 178–181].
Однако необходимость такого сближения диктовалась наличием важных вопросов, до сих пор остававшихся неурегулированными.
Примечательной чертой в 1950-е гг. стал возврат к обсуждению новой системы безо- пасности, в проектах которой присутствовала отсылка к межвоенному опыту. К таким планам относились британские идеи о создании новой системы Локарно и др. Эта постоянная рефлексия западных стран и СССР в разных формах и контекстах по поводу провалившихся попыток создать систему коллективной безопасности в Европе в 1920–1930-е гг. показывала, что и после 1945 г. европейские страны оказались перед теми же проблемами, которые обусловили предвоенный кризис и привели ко Второй мировой войне.
В сентябре 1955 г. состоялся визит К. Аденауэра в Москву. Федеральный канцлер без оптимизма наблюдал устремления своих западных коллег к поиску смягчения международной напряженности, рассматривая внешнеполитические линии Парижа и Лондона в отношении Советского Союза как «преступную слабость» [Филитов, 2006. С. 177]. Такое мнение, однако, не помешало Аденауэру принять приглашение Москвы посетить Советский Союз.
Вопреки прогнозам западных экспертов эта встреча оказалась плодотворной с точки зрения нормализации двусторонних отношений. Стороны достигли договоренности об установлении дипломатических отношений и подписали соглашение о возращении в Западную Германию почти 10 тыс. немецких военнопленных 10, остававшихся на территории Советского Союза [Визит канцлера..., 2005. С. 137–139]. Эта договоренность, как признавал на заседании кабинета глава Фо-рин офис, вызвала беспокойство в Соединенных Штатах и Франции. Г. Макмиллан рассматривал эту договоренность как значительную победу советской дипломатии, которая усилит позиции советской стороны и наоборот, ослабит британские позиции на встрече министров иностранных дел в Женеве в октябре 11.
Накануне совещания министров иностранных дел в Женеве премьер-министр
Г. Макмиллан собирался предложить к обсуждению идею заключения пакта безопасности, содержащего гарантии советской стороне в обмен на объединение Германии 12.
Двадцать седьмого октября 1955 г. открылось совещание в Женеве, проходившее с перерывами до 16 ноября. Ключевым вопросом встречи министров иностранных дел стала европейская безопасность. Советская дипломатия вновь предложила к обсуждению проект Общеевропейского договора безопасности. Британия выдвинула план создания в центре Европы зоны ограничения и инспекции вооружений. Оба плана развивали идеи, выдвинутые на предыдущей встрече в Женеве, однако найти по ним точек соприкосновения сторонам так и не удалось [История дипломатии, 1974. С. 439, 440, 469–471].
Семнадцатого ноября, на следующий день после окончания Женевского совещания, Г. Макмиллан информировал членов правительства об итогах встречи 13. Он отметил, что позиция СССР была конструктивной – но только до отъезда В. М. Молотова в Москву в ходе конференции.
Действительно, эта поездка изменила линию СССР, разделив ее на до и после отъезда советского министра иностранных дел и его возвращения в Женеву. Точных причин произошедших перемен в поведении советской делегации в Британии не знали. Г. Макмиллан подчеркивал, что у всех западных министров иностранных дел сложилось общее впечатление: были две причины произошедшей перемены в позиции СССР. Во-первых, это то обстоятельство, что «население стран-сателлитов было разбужено более либеральной политикой» нового советского руководства; во-вторых, внутри советского правящего блока все еще не установился баланс сил между сторонниками и противниками сталинской политики.
В реальности перемена настроений в советской делегации, которую чутко уловили западные визави, была связана с обсуждением в Москве инициативы министра иностранных дел. В ходе совещания Молотов улетел в Москву под предлогом присутствия на праздновании очередной годовщины Ок- тябрьской революции. В работе конференции был объявлен перерыв, во время которого 6–7 ноября Президиум ЦК КПСС в ходе двух заседаний изучал проект министра иностранных дел. В. М. Молотов считал, что нужно попробовать еще раз предложить своим западным коллегам компромисс: выход ГДР и ФРГ из военно-политических блоков, вывод оккупационных войск четырех держав с территории обоих германских государств и проведение общегерманских выборов.
В ходе дискуссий эти идеи были отвергнуты, и линия Москвы после возвращения министра иностранных дел в Женеву была ужесточена [Филитов, 2008. С. 164]. Советская делегация расценила британский проект как план «присоединения» ГДР к ФРГ под видом создания демилитаризованной зоны на границе ГДР и Польши и отвергла его.
Во внешнеполитическом курсе, справедливо предрекал Макмиллан, СССР все больше усилий будет концентрировать в Ближневосточном регионе, что вызывало тревогу британского руководства.
В реальности обе стороны, во многом по инерции, продолжали исходить из прежних оценок друг друга и придерживались подходов, сформированных в рамках «холодной войны». Г. Макмиллан считал, что «главная задача – теснее привязать Западную Германию к Западу»: «Тактическая ошибка русских состоит в том, что они не соглашаются на единство Германии, кроме как на основе сохранения позиций коммунистов в Восточной Германии». Такая позиция, по мнению главы Форин офис, будет только содействовать твердой привязке Западной Германии к Западу 14.
Очевидно, что внешнеполитические установки британского Форин офис не изменились после прихода к власти кабинета А. Идена. Как и прежде, в качестве приоритетной задачи британские консерваторы видели укрепление блока западных стран с тем, чтобы добиться максимальных уступок от советской стороны в решении вопросов безопасности. Женевская конференция и Женевское совещание 1955 г. лишь обозначили возможность сближения, однако без существенных уступок с обеих сторон об ос- лаблении международной напряженности и построении новой системы безопасности не могло быть и речи.
Симптоматично, что в систему внешнеполитических приоритетов Великобритании по-прежнему не вписывались процессы наднациональной интеграции, получившие новый импульс на Мессинской конференции 1955 г.
В дальнейшем Британия продолжила делать ставку на укрепление роли страны как арбитра в отношениях двух сверхдержав, выдвигая новые проекты укрепления европейской безопасности и разрядки международной напряженности. Однако до реального сближения сторон требовались время и соответствующие устремления всех вовлеченных в решение ключевых европейских и мировых проблем сторон.
Список литературы Консервативное правительство А. Идена и проблемы европейской безопасности в 1955 году
- Айрапетов А. Г., Горлова О. С. Денацификация Австрии после Второй мировой войны (по материалам советской оккупационной зоны) // Новая и новейшая история. 2006. № 6. С. 57-68.
- Визит канцлера Аденауэра в Москву 8-14 сентября 1955: документы и материалы / Под ред. А. В. Загорского. М.: Права человека, 2005. 232 с.
- Громыко А. А. Памятное. М.: Политиздат, 1990. Кн. 1. 512 с.
- Добрынин А. Ф. Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при шести президентах США (1962-1986 гг.). М.: Междунар. отношения, 2008. 712 с.
- История дипломатии: В 5 т. М.: Изд-во полит. лит., 1974. Т. 5, кн. 1. 756 с.
- Капитонова Н. К., Романова Е. В. История внешней политики Великобритании. М.: Междунар. отношения, 2016. 840 с.
- Липкин М. А. Советский Союз и европейская интеграция: середина 1940-х - середина 1960-х гг. М.: ИВИ РАН, 2011. 304 с.
- Молчанов Н. Н. Саарский вопрос (1945-1957 гг.). М.: ИМЭМО, 1958. 346 с.
- Филитов А. М. Каким путем пойдет Германия? Советские планы по германскому вопросу в 1953 году // Россия XXI век. 2008. № 2. С. 158-177.
- Филитов А. М. Московский визит Аденауэра 1955 г. // Россия и современный мир. 2006. № 2 (51). С. 177-187.
- Chicago Tribune. 1955. July 19. Lamb R. Macmillan and Europe // Harold Macmillan. Aspects of a Political Life / Eds. R. Aldous and S. Lee. London, 1999. P. 75-94.
- Mueller W. Stalin and Austria: New Evidence on Soviet Policy in a Secondary Theatre of the Cold War, 1938-1953/55 // Cold War History. London, 2006. Vol. 6. No. 1 (February). P. 63-84.