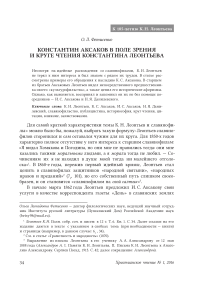Константин Аксаков в поле зрения и круге чтения Константина Леонтьева
Автор: Фетисенко Ольга Леонидовна
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: К 185-летию К. Н. Леонтьева
Статья в выпуске: 1 (66), 2016 года.
Бесплатный доступ
Несмотря на идейные расхождения со славянофилами, К. Н. Леонтьев не терял к ним интереса и был знаком с рядом их трудов. В статье рас- смотрены примеры его обращения к наследию К. С. Аксакова. В старшем из братьев Аксаковых Леонтьев видел непосредственного предшественни- ка своего «культурофильства», а также ценил его исторические афоризмы. Однако, как выясняется, воспринял и запомнил он их не без помощи по- средников - И. С. Аксакова и Н. Я. Данилевского.
К. с. аксаков, и. с. аксаков, н. я. данилевский, славянофильство, публицистика, русская религиозная философия, круг чтения, цитация, влияние, заимствования, никанор (бровкович), русская духовно-академическая философия, казанская духовная академия, в. и. несмелов, п. а. милославский, в. а. снегирев, абсолютное бытие, метафизика, к. н. леонтьев, историософия
Короткий адрес: https://sciup.org/140190155
IDR: 140190155
Текст научной статьи Константин Аксаков в поле зрения и круге чтения Константина Леонтьева
и получил несколько высокомерно выраженный отказ. В 1863–1865 годах он посылал Аксакову несколько статей для этой газеты — и сам, и через посредников, но не был удостоен никаким ответом, хотя и пытался апеллировать даже к памяти брата издателя. Объясняя свои расхождения со славянофильством, Леонтьев писал Ивану Сергеевичу: «…Потем-кин или Пушкин столько же мне по сердцу, как и Ваш покойный брат; те экстензивнее; Кон<стантин> Серг<ееви>ч Акс<аков> был интензивнее, но они все трое наши <…>. Неужели из-за этого Вы отвергнете искреннего друга вашего направления?»4.
И. С. Аксаков и Н. П. Гиляров-Платонов при более близком знакомстве в 1874 году показались Леонтьеву слишком либеральными, а он сам предстал в их глазах сущим иезуитом и — одновременно — носителем «казенного православия»5. Какое уж здесь сближение… Однако в середине и конце следующего десятилетия почва для сближения начинает намечаться, поскольку самим славянофилам пришлось значительно скорректировать свои воззрения и на «братьев-славян», и на многие вопросы русской жизни. Леонтьев в это время, редактируя свои более ранние статьи, значительно смягчает отзывы о славянофилах6.
К теме «Леонтьев и Константин Аксаков» исследователи практически не обращались7, но она вполне имеет право на существование, хотя, конечно, и уступает в объеме материала сложной истории взаимоотношений и творческих пересечений автора «Византизма и Славянства» с младшим Аксаковым, Иваном. Существует даже любопытный исследовательский «сюжет», который лежит на поверхности, но странным образом остался никем не востребованным: К. Аксаков был непосредственным предшественником Леонтьева в предложении о необходимости перехода к национальной одежде — в посмертно опубликованной статье «О современном литературном слове»8 и, конечно, в собственной бытовой практике, подхваченной в конце 1860-х года Леонтьевым, тогда еще дипломатом9. Любопытно, что первый свой проект «о национальной одежде: для войска, ополченья, общества и гражданских деятелей»10 Леонтьев изложил в статье, которую написал для издаваемой И. Аксаковым с октября 1861 года газеты «День», и отказ в публикации не выглядит странным, если учесть, что издатель не разделял подобных увлечений и в отношении к собственному брату.
Не испытывая к К. С. Аксакову никакого «личного» интереса, Леонтьев не терял к нему интерес читательский. Тексты Леонтьева обнаруживают знание порой не самых популярных работ славянофилов и в том числе и К. Аксакова. В те же годы Леонтьев читал «Москвитянин» и Ап. Григорьева. Знал он и журнал «Русская беседа», но начал читать его, вероятно, в усадьбе И. Н. Шатилова уже по возвращении из Крыма — наверстываньем. «Русскую беседу» и «День» «за все время издания» Леонтьев позднее включит в составленный им рекомендательный список литературы для греческих и болгарских гимназий, приложенный к «Записке о необходимости литературного влияния во Фракии» (1865)11.
Леонтьев был внимательным читателем газеты «День» (1861–1865), и особый интерес вызывает у него эта газета в годы польского восстания. В уста одного из своих героев Леонтьев-беллетрист позднее вложит слова: «Я читал „День“ и чувствовал, что становлюсь с каждым часом (да! с каждым часом) больше и больше русским» (5, 168). В этой газете публиковалось посмертно много незавершенных произведений К. Аксакова, и в этом смысле «День» стал одним из существенных источников для укрепления представлений Леонтьева о нем. При этом следует отметить уникальную память Леонтьева-читателя: к примеру, в 1890 году он близко к тексту цитировал передовую «Дня» от 28 октября 1865 (!) года12.
Что-то Леонтьев знал из полемических откликов, как, например, послание «К сербам» (1860), автором которого был Хомяков, а имя К. Аксакова стояло под ним среди прочих подписей. Послание должно было быть знакомо Леонтьеву как минимум по ответу на него Чернышевского («Самозванные старейшины»), упомянутому в статье «Русские, греки и юго-славяне» (71, 446). Еще в 1850-е годы была ему известна полемика о народности в науке, о русском воззрении, которую славянофилы вели с авторами «Русского вестника» (см. 72, 940).
В статьях 1870-х годов для Леонтьева характерно «формульное», «коллективное» упоминание славянофилов, в перечислении: «…славянофи-лов еще не было; не писали Хомяков, Аксаковы, Киреевский» (71, 120); «…вся забота таких людей, как покойные Киреевский, К. С. Аксаков и Хомяков, состояла именно в достижении <…> политического сближения со славянами…» (71, 444–445); «С тех пор, как действовали и писали Киреевский, Хомяков и К. Аксаков, прошло много времени, и все изменилось…» (71, 445); «…то, что было так ясно и так желательно Киреевскому, Хомякову и Аксаковым?..» (71, 546); «…вовсе не тот вид, в котором оно представлялось московскому воображению Хомяковых и Аксаковых…» (72, 134); «Хомяков, Аксаковы, Погодин были приверженцами Самодержавия…» (81, 576). В статье о Каткове (1880) Леонтьев делает следующее наблюдение о развитии славянофильства: «Киреевский <…> дал только общий дух; он написал мало <…>. Хомяков, К. Аксаков и Самарин — дополняют друг друга. Ив<ан> Серг<еевич> Аксаков <…> по культурному вопросу собственно не захотел, видимо, в литературной своей деятельности ни на шаг отклониться от завещанных его предшественниками общих идей…» (72, 202–203). В газетном тексте текст звучал даже так: «неполны; они дополняют друг друга» (72, 502).
В период общения (в основном — горячих споров) с Иваном Аксаковым в Москве в 1874–1875 годов Леонтьев неоднократно ставил ему в пример «Хомякова и Вашего старшего брата», «Киреевских и вашего брата» (61, 94). Значит, к тому времени он имел об этом «старшем брате» представление, достаточное для того, чтобы его именем укорять брата младшего.
И здесь мы возвращаемся к теме круга чтения. Насколько основательно Леонтьев был знаком с трудами и поэтическим творчеством К. Аксакова? Скорее всего, довольно поверхностно. В письме к А. А. Александрову от 12 мая 1888 года он признавался, что плохо, «только по отзывам», знает работы К. Аксакова и высказывал намерение приобрести его полное собрание сочинений (или взять на прочтение у С. Ф. Шарапова):
«Да еще бы хоть цену узнать полному собранию — Конст<анти-на> Серг<еевича> Аксакова (именно то нужно, где он что-то говорит о духе русск<ого> народа; я ведь его совсем не знаю; только по отзывам) и Ив<ана> Вас<ильевича> Киреевского (этого я читал; но что-то плохо помню; — немного отвлеченно и бесцветно показалось; не врезалось).
Впрочем, попытайтесь попросить и того и другого (особ<енно> К. С. Аксак<ова>) у Серг<ея> Федор<овича> Шарапова для меня на два месяца или на три с прилагаемой роспиской. — Может быть доверится; я на книги честен ; не зачитаю; особенно редкую и хозяину Славянофилу необходимую»13.
Расписка тут же прилагалась:
«Получил от Сер<гея> Фед<оровича> Шарапова на прочтение Сочин<ения> Конст<антина> Серг<еевича> Аксакова и И. В. Киреевского сроком на три месяца .
Обязуюсь честным словом их посылкой (а не как попало) — возвратить в срок.
К. Леонтьев
12 мая; 88. Опт<ина> П<устынь>»14.
Впервые он просит об этом в письме от 15 января того же года:
«Узнайте, чтò стоят : Сочин<ения> Юр<ия> Фед<оровича> Самарина (мне нужны богословские особенно, ну, и другие; менее всего нужны его нелюбезные мне Окраины ). — И Соч<инения> Конст<антина> Серг<ееви-ча> Аксакова, и напишите мне»15.
Ссылок на труды К. Аксакова у Леонтьева почти нет. Из наиболее ранних можно указать упоминание об одном из аксаковских отзывов о Гоголе в статье «Наше общество и наша изящная литература» (1863) — скрытую отсылку к статье Аксакова о «Мертвых душах», вышедшую отдельным изданием еще в 1842 году (см.: 9, 85, 650).
Интересно, что Леонтьев использует образы и афористические высказывания Константина Аксакова, приписывая их его младшему брату. Иногда бывало действительно так, что Иван подхватывал какие-то слова Константина и употреблял их в своих статьях, которые Леонтьеву были, конечно, известны гораздо лучше. Например, образ «стеклянный колпак» (то есть «предохранительный колпак»), применительно к помещичьей власти над крестьянами, Леонтьев знал по газете «День»16, а впервые этот образ появился у К. Аксакова17.
Публицистике Леонтьева присуща цитация без указания точного автора (например, обобщенное: «московские славянофилы»). Характерный пример находим в статье «Грамотность и народность»: «…по высокому выражению московских славянофилов, обыкновенный суд, точно так же, как и справедливая полицейская расправа, суть проявления лишь „правды внешней“ , и ни государственный суд, ни суд так называемого общественного мнения , ни полицейская расправа не исчерпывают бесконечных прав человеческого духа, до глубины которого не всегда могут достигать общие правила законов и общие повальные мнения людей» (71, 109).
Внутренняя и внешняя правда противопоставлены в неоконченной статье К. Аксакова «Несколько слов о русской истории, возбужденных историею г. Соловьева» (1851), вошедшей в изданный в 1861 году первый том Полного собрания сочинений славянофила. Ср.: «В человеке есть всегда внутренняя нравственная правда, согласно или против которой он поступает <…>. Действие этой внутренней правды или совести есть чисто нравственное, свободное <…>. Когда люди образовали общину, то общий внутренний нравственный закон является как порядок общей жизни, как обычай. Является другая, впрочем нравственная же сила, общее мнение <…> но <…> не все люди <…> признают только господство нравственной силы <…>. Тогда община прибегает к другой силе (и к другому суду), к силе (и суду) внешней правды, к силе внешнего закона, или закона собственно. <…> до внутренней правды, до души, закону нет дела»18. Та же мысль о «правде внешней» звучит и в «Кратком историческом очерке Земских Соборов» (1859; вошло в ту же книгу), и в одной из записей, включенных в раздел «Разные отдельные заметки»: «Государство не есть проповедник истины. Запад потому и развил законность, что чувствовал в себе недостаток внутренней правды. <…> Цель Государства — сделать ненужною совесть»19.
Но есть и случаи довольно точной цитации. Так, в статье «Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения» (в той ее части причем, что писалась еще на Афоне и сразу после него) цитируется (конечно, без указания точного источника) статья К. Аксакова «Несколько слов о русской истории, возбужденных историею г. Соловьева» (1851):
«К. Аксаков (кажется) жаловался на то, что северо-американцы все до одного отравились политическим принципом, приняли слишком много государственности внутрь . Есть теперь и русские такого рода в обилии» (81, 190). Ту же цитату Леонтьев припоминает и в позднейшей статье «Плоды национальных движений на Православном Востоке», и здесь уже нет никакого «кажется»: «Константин Аксаков говорил, что североамериканцы „приняли слишком много внутрь государственного начала; отравились политикой “» (81, 614).
Вот текст Аксакова, который вспоминал Леонтьев: «…самое гибельное огосударствление народа видим в Америке <…>. Вместо живого народа там государственная машина из людей»20. А что же об «отравлении политикой»? Откуда взялся этот образ? Тут посредником был Иван Аксаков. В передовой статье газеты «День» от 17 марта 1862 года он писал, ссылаясь на старшего брата: «Так, например, Америка, по замечанию К. С. Аксакова, можно сказать, отравилась духом государственности, который, внедрившись там в душу и плоть человека, обратил каждого человека в квартального самого себя, заглушая политическим принципом принцип совести»21.
В более поздней части той же незавершенной книги о среднем европейце (и тоже с осторожным уточнением) Леонтьев приводит историософское наблюдение Аксакова: «Кто-то из прежних писателей наших (если не ошибаюсь, К. С. Аксаков) заметил, что европейская история делает крутой поворот в своем течении ко второй половине каждого столетия ; — быть может, это бывало и бывает везде…» (81, 199–200; дальше он развивает это суждение).
Высказывание Аксакова звучит так: «Колесо Русской Истории оборачивается в 150 лет»22. Не исключено, что это высказывание могло быть памятно Леонтьеву по книге Н. Я. Данилевского «Россия и Европа». Там оно применено — как это отразилось и в цитации Леонтьева — именно к европейской, а не только к русской истории. Ср.: «Колесо европейского движения (по выражению К. С. Аксакова) обращается раз в столетие — так, впрочем, что началом нового оборота служит не начало, а середина каждого века»23.
Имя Данилевского в позднейших контекстах часто добавляется Леонтьевым к именам К. Аксакова и Хомякова24. Всё это для него — проповедники национального своеобразия.
Упоминания о К. Аксакове в письмах Леонтьева почти отсутствуют, а если и появляются, то разве что в виде знакомой нам уже по его статьям формулы «Хомяков и Аксаковы». Ср. в письме к Т. И. Филиппову от 3 декабря 1886 года: «…его [Вл. Соловьева] мнения ведут к духовной дисциплине и представляют значительный противовес богословскому духу Хомякова и Аксаковых; взгляды славянофилов выражены очень благородно, изящно и возвышенно, но тем хуже — в них таится такая глубокая и отвратительная наклонность к протестантизму, что в смысле противодействия им и стремление в Рим хорошо»25.
К. Аксаков занимает не последнюю роль в пропедевтике леонтьевского «гептастилизма» (учения о «новой восточной культуре»). Леонтьев старательно формировал круг чтения своих молодых учеников. Славянофилы естественно входили в самую первую часть его неофициальной «образовательной программы». Возникает, однако, вопрос: если Леонтьев — по признанию 1888 года — только собирался сам хорошенько засесть за изучение трудов славянофилов, как же он учил других? Ответить можно так: он учился вместе со своими «студентами».
Появлялись у него, хотя и редко, и такие хорошо подготовленные последователи, как Иосиф Иванович Фудель (1864/1865–1918). Тот уже в 1888 году задумал специальную работу о старших славянофилах. В эпистолярных обсуждениях этого замысла с Леонтьевым уделяется внимание и К. Аксакову, как всегда, в паре с Хомяковым:
«С осени я думаю заняться следующей работой: популяризирвоать Славянофилов (Ив. Киреевског о, Хомякова, Ю. Самарина и бр<атьев>
Аксаковых), каждому из них будет посвящена особая статья; в совокупности это составит небольшую книжку, которую кто-нибудь издаст. Изложению взглядов каждого славянофила должно предшествовать изложение биографических данных»26. Потом Фудель поясняет: «…я отношусь более доверчиво к философской стороне славянофильского учения, чем к публицистической»27.
К. Аксакову Фудель уделил место еще в своей первой книге «Письма о современной молодежи и направлениях общественной мысли», вышедшей в Москве в декабре 1887 года28. Он писал о славянофиле так: «Посмотрите хоть на Константина Аксакова — этого первообраза русского народа, воплотившего в себе его духовный лик. Надо иметь такую же, как у него, чистую, светлую натуру, такой же идеально-чистый возвышенный характер; надо, читатель, быть таким же девственником душой, каким он был, для того, чтобы уразуметь народную душу и почувствовать всю глубину идеалов русского народа»29.
Задуманная работа не была осуществлена, но можно сказать, что тема была подхвачена, с одной стороны, сыном о. Иосифа Сергеем Фуделем30, с другой — С. Н. Дурылиным31.
Все вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы: К. Аксаков не выходил из поля зрения Леонтьева на протяжении более чем тридцати лет, но находился на периферии его читательского (всегда по-своему прагматического) интереса. Не испытывая восторженного отношения (такого, какое было у молодого Фуделя) к самой личности одного из старших славянофилов, Леонтьев, однако, видел в нем непосредственного предшественника своего «культурофильства» и «идио-тропизма» (учения о национальном своеобразии), а также, по-видимому, ценил ряд его исторических афоризмов. Впрочем, воспринял и запомнил он их не без помощи посредников — Ивана Аксакова и, по-видимому, Н. Я. Данилевского.
Список литературы Константин Аксаков в поле зрения и круге чтения Константина Леонтьева
- Аксаков И. С. Сочинения: в 7 т. М., 1886-1887.
- Аксаков К. С. Полн. собр. соч. Т. 1. М., 1861.
- Александров А. I. Памяти К. Н. Леонтьева. II. Письма К. Н. Леонтьева к Анатолию Александрову. Сергиев Посад, 1915.
- Данилевский Н. Я. Россия и Европа. СПб., 1995.
- Каплин А. Д. К. Н. Леонтьев и ранние славянофилы//Висн. Харковского держ. ун-ту. Iстория. 2000. Вып. 32. № 485. С. 202-211.
- Каплин А. Д. Славянофилы, их сподвижники и последователи. М., 2011.
- Леонтьев К. Н. Записка о необходимости литературного влияния во Фракии//Русия и бьлгарското националноосвободително движение. София, 1990. Т. 2. С. 208-216.
- Леонтьев К. Н. Полн. собр. соч. и писем: в 12 т./Подгот. текстов и коммент. В. А. Котельникова и О. Л. Фетисенко. СПб., 2000 -издание продолжается.
- «Преемство от отцов»: Константин Леонтьев и Иосиф Фудель. Переписка. Статьи. Воспоминания/Сост., вступ. ст., подгот. текста и коммент. О. Л. Фетисенко. СПб., 2012.
- Пророки Византизма: Переписка К. Н. Леонтьева и Т. И. Филиппова/Сост., вступ. ст., подгот. текстов и коммент. О. Л. Фетисенко. СПб., 2012.
- Резвых Т. Н. «Я чувствовал себя как бы его внуком -через сына -через о. Иосифа» (Отец Сергий Дурылин -исследователь творчества К. Н. Леонтьева)//Христианство и русская литература. СПб., 2012. Сб. 7. С. 274-356.
- Фетисенко О. Л. «Гептастилисты»: Константин Леонтьев, его собеседники и ученики. СПб., 2012.
- Фетисенко О. Л. К. Леонтьев и Ив. Аксаков о двух типах христианства//Русская литература. 2008. № 3. С. 129-140.
- Фудель С. И. Собр. соч.: в 3 т. М., 2001-2005.
- N. N. Письма о современной молодежи и направлениях общественной мысли. М., 1888.