Конституция 1918 года о правах священно-церковнослужителеи
Автор: Богданович Л.А.
Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu
Рубрика: История православия
Статья в выпуске: 1 (21), 2001 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/147135458
IDR: 147135458
Текст статьи Конституция 1918 года о правах священно-церковнослужителеи
20 января 1918 года был утвержден декрет СНК «Об отделении церкви от государства и школы от церкви».
На следующий день его опубликовали в газете «Известия ВЦИК» и других изданиях.
Отразив суть намеченных на будущее взаимоотношений государства и церкви, он нашел дальнейшее закрепление и развитие в Конституции 1918 года.
В то время, когда создавалась Декларация, власть советов еще не утвердилась на всей территории страны, революционные преобразования в деревне только начинались, государственный аппарат находился в стадии становления, продолжалась война с Германией.
3 марта 1918 года Россия заключила с Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией Брестский мир. Договор оказался весьма тяжелым для Советской России, но при его осуществлении появилась возможность разработки развернутой Конституции. Комиссия, которая создавала текст Основного Закона, состояла из членов ВЦИК и представителей наркоматов, причем большевики в ней доминировали по числу представителей. Это естественным образом сказалось и на содержании Конституции. Теоретическим источником Основного Закона явилось учение марксизма о государстве, развитое Лениным В.И. применительно к условиям России того времени. Определенное значение для разработки текста имел труд Ленина В.И. «Государство и революция», написанный накануне Октябрьского переворота, а также ряд других его работ, посвященных вопросам диктатуры пролетариата и социалистической демократии, опубликованных в 1917-1918 гг.
По замыслу авторов Конституция обобщала опыт государственного строительства и общественно-политического развития первого в мире государства рабочих и крестьян. Свое конституционное выражение и закрепление в Основном Законе получили завоевания Октябрьского переворота.
В Конституцию была полностью включена Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Основной Закон вечу пил в силу 19 июля 1918 года.
В соответствии с ленинской идеей классовости демократии, в документе ясно указывалось, кому служит советская демократия и против кого она направлена. В 23 статье говорилось: «Руководствуясь интересами рабочего класса в целом, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика лишает отдельных лиц и отдельные группы прав, которые используются ими в ущерб интересам социалистической революции».
Как видно из текста, круг лиц, лишаемых прав, конкретно не указывался. Круг прав, которых могли быть лишены «отдельные лица и отдельные группы», также не определялся. Такое изложение текста, в условиях революции и гражданской войны, должно было позволить органам власти гибко реагировать на складывавшееся положение, оперативно действовать в конкретных ситуациях, вводить или отменять какие-либо ограничения в правах для той или иной группы лиц. К этой мере подводила практика первых месяцев революции.
Однако Основной Закон содержал и довольно конкретные положения. Статья 7 четко делила общество на трудящихся и эксплуататоров, при этом наделяя властью первых и лишая таковой - вторых. В момент решительной борьбы пролетариата с его «эксплуататорами, - подчеркивалось в документе, - эксплуататорам не может быть места ни в одном из органов власти». Этот принцип проводился в жизнь путем лишения эксплуататоров прав, которые могли быть использованы ими в ущерб трудящимся. Иными словами, провозглашая классовую демократию для трудящихся, Основной Закон не признавал формального равенства прав всех граждан, хотя сословные различия, имевшиеся в царской России, были отменены 10 (23) ноября 1917 года декретом ВЦИК и СНК «Об уничтожении сословий и гражданских чинов».
В Конституции 1918 года предусматривалось два основных случая лишения прав. Статья 65 приводила перечень лиц, не имевших права избирать и быть избранными. Среди них значились лица, прибегавшие к наемному труду с целью извлечения прибыли, жившие на нетрудовые доходы в виде процентов с капитала, доходов с предприятий, поступлений с имущества и т.п. Все перечисленное в той или иной мере имело прямое отношение к монастырям и православным принтам. Однако в статье «монахи и духовные служители церквей и религиозных культов» причислялись к лишенцам особым пунктом.
В статье 3 говорилось, что «в интересах... устранения всякой возможности восстановления власти эксплуататоров» декретировалось вооружение трудящихся и полное разоружение имущих классов». Красная гвардия, созданная вскоре после Февральской революции, строилась по классовому принципу: в ее ряды принимались только рабочие, трудящиеся крестьяне и служащие, преданные делу трудящихся. Данный принцип соблюдался при создании Красной Армии. Первоначально в нее не допускались нетрудовые элементы, однако в период развертывания «массовой армии» для отпора интервентов классовый принцип подвергся некоторой трансформации. Постановление «Об организации Красной Армии», принятое V Всероссийским съездом Советов, закрепило переход ко всеобщей воинской повинности и распространило его на нетрудовые элементы в виде специального рода военных обязанностей - участия в тыловом ополчении. При условии доказательства делами и поступками «верности трудящимся классам» нетрудовые элементы переводились в строевые части. Изучение личных дел священнослужителей периода 1918-1948 гг. позволяет утверждать, что определенная часть духовенства Мордовского края состояла в тыловом ополчении. Некоторые священно-церковнослужители проходили действительную службу в Красной Армии.
Конституция 1918г. предоставила гражданам широкий, по тому времени, круг демократических свобод: свободу совести (ст. 13), свободу слова и печати (ст. 14), свободу собраний (ст. 15), свободу объединения в различные союзы (ст. 16). Однако все перечисленные свободы предоставлялись трудящимся, т.к. в законе указывалось на классовые ограничения.
С другой стороны, открытая оппозиция церкви чрезмерно резким мероприятиям советской власти вызвала жестокие репрессии против церковников.
Основной Закон РСФСР обеспечивал свободу печати, но опять-таки для трудящихся, т.к. издательства, типографии, бумага - все это находилось в руках пролетарского государства. Именно поуказанной причине с 1917-1918 гг. многие религиозные издания, как и издания «буржуазной прессы», прекратили свое существование. Примером тому могут служить «Пензенские епархиальные ведомости», выходившие с 1866 года два раза в месяц. На № 29-30 1917 года издание прервалось без перспектив на продолжение. Аналогичным образом складывалась судьба «Симбирских епархиальных ведомостей», «Нижегородских епархиальных ведомостей», «Тамбовских епархиальных ведомостей» и др.
О возможностях выступления в средствах массовой информации говорилось также в декрете СНК о печати, принятом 27 октября 1917 г. Документ предусматривал санкции против тех органов печати, которые призывали к сопротивлению новой власти, сеяли смуту, побуждали к массовым волнениям. Конституция, как видим, закрепила действие законодательного акта. Однако устное выражение своих мнений ограничивалось с наибольшими трудностями. Например, хотя статья 14, говоря о свободе слова и печати, основывалась на принципиально классовых позициях, тем не менее даже в годы гражданской войны правом «выражения своих мнений» пользовались не только рабочие и трудовое крестьянство. Так, в Москве действовала Вольная Академия Духовной Культуры, где читались лекции преподавателями, далекими от марксизма. В 1919-1920 учебном году в Академии прочитал свой курс религиозной философии истории Бердяев Н.А. Лектор в названном курсе открыто критиковал марксизм. И такое положение принималось обществом как «высокий спор» об истине, о смысле борьбы. Но спор этот длился, как известно, до определенного времени, так как философ преподавал в Академии до 1922 года, а затем был выслан из России.
Что же касается священнических проповедей, то практически с 1917 года начались аресты и даже расстрелы духовенства, рискнувшего в
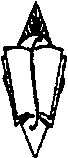
служебное время высказать свои мысли прихожанам о происходивших в государстве событиях. Хотя проповедь - это тоже обращение к слушателю с речью; духовное слово, адресованное к пастве; наставление и поучение. Священников, которые оказывали большое влияние на верующих, сразу стали контролировать.
Статья 15 Конституции РСФСР представляла трудящимся свободу собраний, понимая под нею возможность устраивать также митинги, шествия и др. мероприятия, которые можно было трактовать как собрания. «Эксплуататорам» такое право не предоставлялось, т.к. свергнутые классы при проведении митингов и шествий «стремились утверждать свои жизненные интересы», противоречившие новым законам.
В последующих документах, конкретизировавших положения Конституции, отдельно рассматривался вопрос о возможности религиозных шествий. Это было обусловлено тем, что ряд антисоветских выступлений конца 1917-начала 1920-х гг. происходил по религиозным мотивам. В связи с этим ограничения гражданских прав священно-церковнослужителей, выраженные в Основном Законе в общей форме, были уточнены специальной инструкцией НКЮ от24 августа 1918 года, в соответствии с которой (п. 31) религиозные шествия, молебны на открытом воздухе без разрешения местных властей не допускались.
Указанные ограничения нашли дальнейшее закрепление в Уголовном кодексе РСФСР, введенном в действие 1 июня 1922 года. В главе 3 «О нарушениях правил об отделении церкви от государства» пункт227 гласил: «Публичные нарушения или стеснения религиозными обрядами или культовыми церемониями свободы движения других граждан, вопреки закону или обязательному постановлению местной власти, карается - принудительными работами или штрафом до 300 руб. золотом».
На деле же любое стремление верующих собраться для религиозных шествий, начиная с 1918 года стало восприниматься, как противозаконное. Местные власти стремились указывать на различные причины, которые могли бы мотивировать запрещение к проведению подобных мероприятий, т.к. они невольно приобретали политическую окраску.
Статья 16 Основного Закона предоставляла «рабочим и беднейшим крестьянам» свободу объединения во всякого рода союзы и организации. Объединение верующих рабочих и крестьян логично предполагало религиозные организации. Согласно декрета СНК РСФСР «Об отде лении церкви от государства и школы от церкви» образование и функционирование церковных и религиозных обществ разрешалось с условием их «подчинения общим положениям о частных обществах и союзах». В документе также указывалось, что такие общества не могли пользоваться «никакими преимуществами и субсидиями ни от государства, ни от его местных автономных и самоуправляющихся установлений».
Инструкция НКЮ от 24 августа 1918г. указывала, что под действие декрета «Об отделении...» подходили: «а) церкви: православная, старообрядческая, католическая всех обрядов, армяно-грегорианская, протестантская и исповедания: иудейское, магометанское, буддийско-ламаитское; б) все иные частные религиозные общества, образовавшиеся для отправления какого-либо культа как до, так и после издания декрета. ..; а также в) все общества, которые ограничивают круг своих сочленов исключительно лицами одного вероисповедания и, хотя бы под видом благотворительных, просветительных или иных целей, преследуют цели оказания непосредственной помощи и поддержки какому бы то ни было религиозному культу (в виде содержания служителей культа, каких-либо учреждений и т.п.)». Этим же документом уточнялось, что все перечисленные общества лишались прав юридического лица. Предоставлялась только возможность отдельным членам этих обществ осуществлять «складчины на приобретение для религиозных целей имущества и на удовлетворение других религиозных потребностей».
При малейшем нарушении использования денежных средств религиозные общества подлежали закрытию, а их имущество передавалось Советами рабочих и крестьянских депутатов в соответствующие комиссариаты и отделы (п. 3).
Важным условием для существования религиозного общества предъявлялось наличие не менее 20 человек местных жителей.
Конкретные ограничения религиозных и церковных обществ принимались властями по вопросам имуществ, предназначенных для совершения религиозных обрядов и некоторых других имуществ (дома, земли, угодья, фабрики и др.), а также по вопросам о принадлежности метрических книг, о религиозных церемониях и обрядах, о преподавании религиозных вероучений.
Возможности объединений верующих граждан со временем уточнялись: согласно постановления В ЦИК от 3 августа 1918 года, ни одно религиозное общество не могло открыть свои действия без регистрации его в отделе управления
§ОЖЖ®Ш888Ж №i,2ooi Ж$§8ЖВЖ$8Ж^
губернского или областного исполкомов. Внимание также заострялось на порядке закрытия указанных обществ, а именно на том, какие поводы могут служить этому
В 1922 году Уголовный кодекс указал меры, которым могли подвергаться религиозные общества и церковные организации в случае нарушения правил об отделении церкви от государства. Пункт 123 главы 3 гласил: «Присвоение себе религиозными или церковными организациями административных, судебных или иных публично-правовых функций и прав юридических лиц карается - принудительными работами на срок до шести месяцев с ликвидацией имущества организаций».
Дальнейшие изменения в отношении объединений верующих были закреплены в инструкции НКЮ и НКВД РСФСР «О порядке регистрации религиозных обществ и выдачи разрешений на созыв съездов таковых» от 27 апреля 1923 г.
Таким образом, становится ясным, что официальные взаимоотношения советского государства и Русской православной церкви стали складываться с момента принятия первых декретов новой власти. Только за период с конца 1917 г. по 1924 г. было выпущено более 120 нормативных актов, затрагивавших интересы церкви. И с самых первых шагов советское государство взяло курс на серьезное ущемление прав служителей церкви и верующих.


