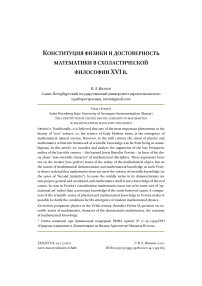Конституция физики и достоверность математики в схоластической философии XVI в
Автор: Иванов Виталий Львович
Журнал: Schole. Философское антиковедение и классическая традиция @classics-nsu-schole
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.14, 2020 года.
Бесплатный доступ
Традиционно считается, что одним из наиболее важных феноменов в истории «новой» науки, т.е. науки раннего Нового времени, является возникновение математического естествознания. Более того, после раннего Нового времени сама научность физики часто определяется согласно тому, насколько она использует в своей теории математическое знание. Однако в XVI веке представление о статусе физики и математики в рамках научного знания было далеко не столь однозначно. В данной статье мы рассматриваем и анализируем аргументацию позднеперипатетического автора конца XVI в. - ученого иезуита Бенедикта Перейры - в пользу высказанного им тезиса о «не-научности» математических дисциплин. В ходе рассмотрения традиционного деления теоретических наук на метафизику, физику и математику Перейра задается вопросом, в какой мере каждая из трех дисциплин может быть названа «теоретической наукой» в собственном смысле. Он подтверждает, что физика и метафизика могут быть названы теоретическими науками, но приводит целый ряд аргументов в пользу того, что математика таковой не является. Эти аргументы сосредоточены не на более слабом (менее совершенном) статусе реальности математического объекта, но на характере математической демонстрации и математического знания. Перейра подробно показывает, что математика не удовлетворяет критериям научного знания (в смысле «Второй аналитики»), поскольку средние термины в ее доказательствах являются не-собственными, общими и акцидентальными, а сама математика не является знанием о реальных причинах. В итоге, математика оказывается в рассмотрении Перейры скорее неким операциональным искусством, чем необходимым знанием истины из реальных причин. Сопоставление научного статуса физического и математического знания у Перейры позволяет прояснить условия возникновения нововременной математической физики.
Перипатетическая физика xvi в, бенедикт перейра, вопрос о научном статусе математического знания, характер математической демонстрации, достоверность математики
Короткий адрес: https://sciup.org/147215859
IDR: 147215859
Текст научной статьи Конституция физики и достоверность математики в схоластической философии XVI в
* Cтатья написана при финансовой поддержке РФФИ, проект № 17-03-00329 ОГН «Природа и движение в „Комментарии на Физику Аристотеля“ Михаила Пселла».
ΣΧΟΛΗ Vol. 14. 1 (2020)
Начиная с историко-философских исследований и учебников неокантиан-цев1 и позитивистов конца XIX – начала XX в. широко известно, что одной из наиболее фундаментальных и общих характеристик «новой науки», т.е. возникшего в XVII в. нового естествознания , декларировавшего свой решительный разрыв со старыми формами физического знания, – будь то бывшая до этого, так сказать, ученым «мейнстримом» перипатетическая схоластика, или вполне маргинальная для университетов герметическая оккультная философия, – той науки Нового времени, которая прочно связана для современной истории философии и общей исторической образованности прежде всего с именами Галилея и Ньютона, является ее математическая форма. Не только историки философии, но и одни из наиболее значимых современных философов – такие, как Гуссерль в «Кризисе европейских наук и трансцендентальной феноменологии»2 или Хайдеггер во «Времени картины мира»3 и «Европейском нигилизме», считали, что именно математизация естественных наук выступает фундаментальной характеристикой «нововременного знания», «новоевропейского человечества» или эпохи исторического феномена «картины мира», т.е. Нового времени . Кажется, и сами философы Нового времени – от Декарта, постоянно ссы-лавшегося4 на образцовость математики для всех прочих наук в плане очевидности ее аксиом и несомненности ее доказательств, до Канта, выделив-шего5 математическое познание как особый второй род человеческого познания, наряду с философским, и написавшего однажды то, что стало чуть ли не афоризмом среди последующих философов: во всякой естественной науке имеется столько науки в собственном смысле, сколько в ней математики,6 почти единогласно утверждали, что математизированность новоевропейского знания о природе – его существенная и необходимая черта как именно научного знания.
Тем интереснее то обстоятельство, что в истории философии известен случай, когда почти накануне того XVII века, который традиционно провозглашается «началом Нового времени», и когда возникла «новая наука» о природе, а именно во второй половине XVI в., статус самой математики как науки был однажды аргументированно подвергнут весьма основательному сомнению. Причем случилось это именно в трактате о началах физи- ческой философии. Старший современник Галилея, бывший профессором философии в той самой Римской коллегии Общества Иисуса, в которой двумя десятилетиями позже иногда, когда бывал в Риме, слушал доклады и лекции Галилей, испанский (точнее, каталонский) иезуит Бенет Перера (лат. Benedictus Pererius), более известный под своим испанизированным именем (в кастильском варианте) Бенито Перейра (1535–1610), утверждал в своем философском трактате «De communibus omnium rerum naturalium principiis et affectionibus libri quindecim» («Пятнадцать книг об общих принципах и свойствах всех природных вещей»), что «математическая дисциплина или учение не является наукой в собственном смысле».7 Поскольку Перейра исторически относится к поздней схоластической науке, был иезуитом (а значит теологом), а кроме того, как философ опубликовал свой главный труд по перипатетической физической философии (не считая маленькой книги об «астрологии, магии и толковании сновидений», в которой опровергал эти «ложные и наполненные суевериями искусства»), каковая прежде всего и была отвергнута чуть позже «новой наукой», то его учение не слишком часто попадает в фокус исследовательского внимания современных историков философии,8 а в отечественной истории философии и вовсе мало известно и никак не исследовано. Поэтому нам представляется весьма важным рассмотреть более подробно, в чем же заключалась аргументация ученого иезуита, по каким именно причинам он отвергает научный статус математических дисциплин, какую роль в его аргументах играла «демонстративность» математики как наиболее часто приводившийся критерий ее особой научности, и каковы вообще были критерии сравнения математики с иными формами теоретического знания, прежде всего – с физикой, в перипатетической философии конца XVI в. Иными словами, в этой статье мы намерены представить и кратко проанализировать вопрос о «математике» и ее характеристиках как теоретического знания в трактате по перипатетической физике Б. Перейры как своего рода case-study для лучшего понимания условий возникновения нововременной математической физики, чтобы поставить под вопрос самопонятность «математического» и его образцовость для теории вообще и создать своего рода контраст к обычным и всем известным представлениям о Галилее и Декарте, «математизировавших» природу и «механизировавших» мир.
Перейра является одной из наиболее философски значимых фигур первого поколения ученых Общества Иисуса, он был в числе первых профессоров философии в Римской коллегии и тем самым заложил основы преподавания философии для всей позднейшей образовательной системы Общества.9 Римская коллегия Общества Иисуса была основана в 1551 г., преподавание философии и теологии началось в ней, согласно пожеланию Лойолы, в 1553 г., через три года папой Павлом IV коллегии был дарован статус университета (т.е. дано право присуждать степени по философии и теологии), а уже в 1558 г. Перейра читал в Римской коллегии свой первый курс физики. В следующем году он читал уже курс метафизики, причем логику параллельно с Перейрой читал его собрат по ордену и коллега по «кафедре» будущий кардинал и автор известнейших комментариев к разным частям аристотелевской философии Франсиско де Толедо. Перейра преподавал в Римской коллегии все части перипатетической философии (т.е. логику, физику (общую и специальную), «о душе» и метафизику) с 1558 по 1567 год,10 после чего занял место профессора схоластической теологии, а позднее – профессора Священного Писания (т.е. библеистики и экзегетики). Сохранилось довольно много манускриптов его лекций по философии,11 однако подготовил к печати и опубликовал он лишь одно большое нетеологическое сочинение – в 1576 г. в Риме вышел вышеупомянутый трактат по естественной или физической философии (причем после некоторых затруднений с цензорами из-за подозрения в «аверроизме» Перейра исправил ряд мест в уже готовом сочинении). Трактат имел необычайный успех, за последующие сорок лет (примерно до 1618) он переиздавался 16 раз,12 так что стал одним из самых известных и популярных пособий в коллегиях и университетах Общества в период вплоть до конца XVI в., но также и за пределами Общества, особенно в немецких землях, где его использовали для изучения физики не только католики, но и представители зарождавшейся «протестантской школьной философии». Сам трактат представляет собой переработанные лекции Перейры, что видно по сохранившимся в Ватикане и Милане манускриптам лекций, в которых некоторые небольшие разделы перенесены в трактат почти дословно.13
Перейра отнюдь не был представителем некой «консервативной» науки иезуитов, наоборот, как показывает стиль и содержание его трактата, он был прекрасно образован гуманистически, а также знал все новые для XVI в. только что изданные и переведенные на латынь трактаты позднеантичных комментаторов – он постоянно цитирует и ссылается на Александра Афро-дисийского, Симпликия, Филопона и Фемистия,14 а также на сочинения Платона, Плотина и Прокла. Разумеется, как и любой ученый Общества, он был перипатетиком в философии, как того требовал «Устав Общества» от преподавателей философии,15 но никакого «слепого следования авторитету Аристотеля», в котором обвиняли схоластов гуманисты и позднейшие «новые философы», мы в нем не найдем. В «Предисловии» к своему трактату он дает апологию философии, подчеркивая ее пользу для христианского образования, но кроме того специально подчеркивает, что «Ego multum Platoni tribuo, plus Aristoteli, sed rationi plurimum» («Я высоко ценю Платона, еще больше – Аристотеля, но больше всего – разум»).16 Кроме того, стоит особо отметить, что трактат по физике написан им не в форме «комментария» к физическим сочинениям Стагирита, что во второй трети XVI в. было еще весьма оригинальным и необычным для представителя схоластической философии решением. Иначе говоря, мы имеем дело с одним из первых в истории систематических трактатов по перипатетической физической фило- софии, претендующим на исчерпывающее и методическое изложение всех вопросов «общей физики» в 15 книгах.17
Перейра затрагивает интересующий нас здесь вопрос о научном статусе математических дисциплин18 в нескольких местах своего сочинения. Главные тематические контексты, в которых обсуждается этот вопрос, расположены в I и в III книгах трактата. Первая книга («О философии») является вводной ко всему трактату: она посвящена рассмотрению философии вообще, разделению философии на теоретическую и практическую, а также делению теоретической философии на три известные в перипатетической традиции науки – метафизику, физику и математику, сравнению этих наук по первенству, достоинству и достоверности, вопросам подчинения наук друг другу, а также некоторым сомнениям и трудностям, возникающим в ходе решения этих вопросов. Именно эта первая книга особенно знаменита и лучше всего изучена в современной исследовательской литературе.19 Тре- тья книга трактата («О пути и порядке физического учения») посвящена научному методу и порядку изложения физического учения, т.е. разбору познания разных видов причин, порядку физического познания, а также знаменитому схоластическому вопросу о «первом познанном».
В первой книге Перейра затрагивает интересующий нас вопрос в контексте непосредственного выяснения «научности» математики (11 и 12 главы), а также в контексте сравнения трех теоретических наук по «благородству», достоверности и первенству (16 и 17 главы). Сначала Перейра излагает (в 5 гл.) фундаментальное обще-перипатетическое разделение теоретической философии/науки на три теоретических науки – метафизику, физику и математику, которое он обосновывает достаточно традиционно томистски,20 т.е. посредством различия трех типов абстракции от материи, которая лежит в основании рассмотрения каждой из трех наук: метафизика отвлекается в своем рассмотрении от всякой материи как в познании, так и в реальном бытии своих объектов (некоторые из которых нематериальны), математика абстрагируется от материи в познании, но не в реальном бытии, поскольку ее объект, т.е. количество, не может существовать в вещах без материи, а физика абстрагируется лишь от так называемой индивидуальной материи, поскольку рассматривает вещи как движущиеся природные тела, которые не существуют без движения и материи.21 Уже в рассмотрении трудностей, которые обычно приводятся в аргументации относительно этого разделения, нам встречается одна, связанная с математикой, в решении каковой трудности он первый раз делает22 любопытное для нас замечание, смысл которого сводится к указанию на то, что «количество» (которое было определено как предмет математических наук) – амбивалентный и многозначный термин, так что количество в смысле некоторого рода реального сущего и акциденции первой материи рассматривается метафизикой, а отнюдь не математикой, а кроме того, не рассматривается ей в абстракции от субстанции вообще. В противоположность этому, математика рассматривает количество в полной независимости и абстракции от любой субстанции23 (т.е. не как акциденцию), но исключительно в отношении тех свойств (например, бытия равным, делимым, соизмеримым или пропорциональным), которые присущи именно количеству как таковому. Иначе говоря, количество как предмет математики есть как бы чистая абстракция, не имеющая дело ни с чем субстанциальным в самих вещах, само количество и выступает последним «подлежащим» всех доказываемых и рассматриваемых в математике свойств.
Однако собственно Перейра обсуждает вопрос о научности математики после завершения изложения вопроса о делении теоретических наук, поставив следующую проблему: поскольку мы называем эти три вида теоретического знания одним термином «теоретическая наука» (scientia speculativa), то для подтверждения правильности разделения нужно дополнительно выяснить, употребляется ли этот термин в отношении членов деления однозначно, или, говоря схоластически: сказывается ли термин «наука» унивокально в отношении всех трех – метафизики, физики и математики? В начале рассмотрения этого затруднения Перейра излагает некоторое достаточно мягко сформулированное сомнение в унивокальности этого термина, основывающееся на традиционном аргументе о необходимом подобии отношения между науками отношению между вещами, которые являются их объектами: науки должны соотноситься друг с другом так же, как соотносятся подлежащие их рассмотрению вещи, а поскольку математика рассматривает количество, т.е. акциденцию, физика – движущееся тело, т.е. субстанцию, а метафизика трактует о Боге – в отличие от физики и математики, имеющих дело лишь с сотворенными вещами, и поскольку авторы данного сомнения (скорее всего бывшие томистами) считают, что нет ничего унивокально общего ни для Бога и тварей, ни для субстанции и акциденции, следовательно, и содержание понятия «наука» не может быть присуще трем этим видам знания равным образом или унивокально. Однако Перейра тут же опровергает эту аргументацию, поскольку он считает, что из не-унивокальности самих вещей, являющихся предметами наук, вовсе не следует не-унивокальность наук: предметы наук должны рассматриваться в данном затруднении не как вещи, но именно поскольку они знаемы в науке (prout scibilia) и причастны к ее чтойности. Иначе говоря, Перейра никоим образом не считает истинным традиционное основание сомнения в научности математических дисциплин, а именно реальное несовершенство их объекта, т.е. количества как реальной акциденции. После изложения и разбора иных авторитетных суждений, главным среди которых оказывается мнение Александра Афродисийского, Перейра в начале 12 главы высказывает собственное мнение: «математические дисциплины не являются науками в собственном смысле»,24 которое он подкрепляет аргументами. Главный его аргумент, на самом деле, содержит в свернутом виде всю последующую аргументацию по данному вопросу и состоит в следующем: научное знание есть познание (или объяснение) вещи из причины, из-за которой вещь есть; кроме того, наука есть эффект демонстрации.25 Совершенная же демонстрация, согласно эпистемологии Аристотеля, должна быть силлогизмом, состоящим из тех терминов, которые присущи демонстрируемому «через себя»/«сами по себе» и «собственным образом», а не акци-дентально и не как общие подлежащему доказательства и чему-то еще, помимо него. Это – общая перипатетическая теория, содержащаяся во «Второй аналитике».26 Однако, согласно Перейре, математика не рассматривает ни сущность количества как такового (это делает метафизика), ни трактует о тех свойствах, которые рассматривает, поскольку они проистекают именно из сущности количества, ни доказывает присущность этих свойств количеству через их (свойств) собственные и реальные причины, более того, она даже не составляет свои доказательства из собственных и присущих через себя предикатов, но из общих и присущих акцидентально.27 Поэтому математика – не наука в собственном смысле (proprie) термина «наука». В подтверждение своего мнения Перейра сначала приводит авторитетные суждения – но отнюдь не Аристотеля, как можно было бы предположить, а Платона и Прокла.28 Далее он аргументирует,29 непосредственно комментируя способ геометрического доказательства, известный всем из «библии» геометров – «Элементов» Евклида. Он показывает, что даже Евклид в своих доказательствах (Перейра разбирает знаменитое 32 доказа- тельство I книги, где равенство углов треугольника двум прямым углам демонстрируется через построение внешнего для этого треугольника угла) постоянно использует в качестве «среднего термина» (а именно в характеристиках среднего термина перипатетики традиционно видят «силу» доказательства) такие термины, которые не являются реальными причинами присущности доказываемых свойств предмету, о котором они доказываются. «Среднее» в математическом доказательстве также не необходимо и не связано со свойствами «через себя», но акцидентально: так, внешний угол, построенный продолжением одной из сторон треугольника, как средний термин в доказательстве является исключительно акцидентальным по отношению к свойству треугольника «равенство углов двум прямым», поскольку, даже если мы предположим, что такое построение внешнего угла было бы вообще невозможно, данное свойство было бы, тем не менее, присуще треугольнику. Кроме того, часто Евклид доказывает не из собственных для предмета доказательства терминов, а из общих аксиом и предикатов (например: «целое больше своей части», «равны линии, проведенные из центра к окружности»). Все это, по мнению Перейры, вполне убедительно показывает, что математики не пользуются (или пользуются редко и лишь по случаю) тем типом «совершенной демонстрации» (где средний термин есть реальная необходимая причина присущности свойства), который им традиционно многими приписывается.30 Итак, заключает Перейра, математика не обращает внимания на то, что является наиболее важным в научной демонстрации и в науке как таковой – каков характер среднего термина в отношении заключения (причина ли он заключения, или нет, собственная или акцидентальная причина), но беспокоится лишь о том, чтобы показать очевидную и необходимую связь этого среднего термина (откуда бы она его ни взяла) с тем, о чем она ведет свое доказательство. Следовательно, математическая дисциплина – в собственном смысле не наука, вновь подчеркивает Перейра. И хотя, как он тут же признает,31 физика и метафизика – в силу трудности и неочевидности или изменчивости собственных предметов, либо из-за слабости и ненадежности человеческого интеллекта – тоже не всегда демонстрируют из причин, но они, по крайней мере, всегда стремятся к тому, чтобы вести совершенное доказательство в собственном смысле, и точно не принимают в качестве средних терминов ничего, кроме присущего вещам «через себя и собственно», полностью отбрасывая акциден-тально присущее и по большей части – общее, тогда как математику все это просто не заботит. Итак, заключает Перейра, теоретическая наука не может сказываться унивокально о математических дисциплинах и о физике с метафизикой, поскольку собственное содержание или смысл понятия науки (propria ratio scientiae), как он описан во «Второй аналитике» Аристотеля, не присущ математике так, как он присущ физике и метафизике.
В третьей книге трактата, посвященной эпистемологическим и методическим вопросам, Перейра добавляет еще целый ряд аргументов в развитие своего суждения о не-научности математики. Теоретическая наука, согласно общему консенсусу перипатетической традиции, является рассмотрением истинных и реальных причин тех вещей, наукой о которых она является. Физика и метафизика, как показывает Перейра,32 трактуют о всех родах причин, хотя и в разных аспектах. Однако, есть ли у «математических вещей» (т.е. у свойств и видов/частей количества), поскольку их рассматривает математика, какие-то причины вообще? В 3 главе III книги трактата33 Перейра сначала дает общий ответ на этот вопрос: у математической «вещи» как объекта математики нет ни одной причины в собственном смысле термина «реальная причина» – из четырех известных перипатетической традиции родов причин. В самом деле, что у нее нет материи – очевидно, поскольку она «по определению» абстрагируется от любой физической материи, т.е. от материи как сущностной части сложной природной субстанции; что у нее как таковой отсутствует цель, согласно Перейре, показано Аристотелем, эксплицитно утверждающем в III кн. «Метафизики», что в математическом как таковом ничто не доказывается из целевой причины, и никто не аргументирует из природы блага.34 Кроме того, у математического объекта отсутствует и реальная действующая причина, помимо рассматривающего интеллекта (но он является не причиной бытия таким-то свойством количества, а лишь причиной познания, иначе математика вообще не могла бы называться теорией35), поскольку, по мнению Перейры, реальная действенность действующей причины необходимо связана либо с физическим движением, либо с творением (если речь о первой действующей причине). Наиболее развернуто он аргументирует,36 чтобы доказать, что у мате- матического объекта как такового не имеется и формальной причины: во-первых, у него не может быть формы как сущностной части сложного субстанциального целого, так как она необходимо соотнесена в бытии с природной материей, которая отсутствует, как показано выше. Во-вторых, количество, поскольку оно трактуется в математике, само не является «чтойностной формой вещи», т.е. в собственном смысле у него нет и формальной причины в смысле сущности или причины бытия вещи. Согласно Перейре, количество вовсе не рассматривается в математике как «реальная акциденция субстанции», т.е. поскольку оно существует или может существовать в природе вещей37, ведь оно полностью абстрагируется от субстанции. Действительно, математика не рассматривает ни саму сущность количества, ни собственные и природные свойства, присущие ему природно по его сущности, что в особенности доказывается характером математических определений: очевидно, что все математические определения – это не сущностные определения, а скорее некие акцидентальные описания (descripti-ones quaedam accidentariae), а самое главное – сами математические свойства, демонстрируемые в математике, являются в своей основной части некоторыми «внешними отношениями» (respectus et relationes extrinsecus advenientes), привходящим образом присущими количеству или фигуре.38 Кроме того, как уже показал Перейра, сами средние термины в математических демонстрациях не являются формальными причинами заключения или свойства, потому что по большей части они – не принципы этих свойств, но выбираются случайно, являясь общими или акцидентальными для свойств. Кроме того, у демонстрируемого свойства должна быть лишь
В. Л. Иванов /ΣΧΟΛΗ Vol. 14. 1 (2020) 155 одна формальная причина присущности, а математические «основания», как правило, являются разными и множественными, так что могут служить принципами присущности совершенно разных свойств в разных демонстрациях.
Перейра предлагает также некое общее доказательство того, что ни один род реальных причин не учитывается в математике, а именно: математические вещи как таковые являются абстрагированными от движения и не связанными с ним (по определению), все реальные причины некоторым образом связаны с движением, следовательно, математические вещи абстрагированы от любого рода реальных причин, т.е. вообще не связаны с причинами. Меньшая посылка доказывается из описания содержания понятия каждой причины,39 в котором присутствует связь с движением: материя есть то, из чего вещь возникает; действующее – то, в чем есть первый принцип движения; цель – то, ради чего возникает нечто, т.е. граница или предел природного (не-насильственного) движения; форма же реально тождественна с целью и не может существовать без материи. Это доказательство подтверждается также авторитетным свидетельством Аристотеля, который – согласно формулировке Перейры – утверждает в 7 гл. II кн. «Евдемовой этики», что в математических вещах нет причин или принципов в собственном и истинном смысле, но лишь согласно некоему подо-бию.40 Иначе говоря, вместо истинных и реальных причин математика всегда пользуется некими «общими положениями» или аксиомами как началами демонстрации. Дополнительно Перейра поясняет исключение рассмотрения реальных причин из математики, а также точнее эксплицирует то, что именно в математике «заменяет» традиционные реальные причины, в своих ответах41 на ряд возражений, указывающих на явность присутствия в математическом рассмотрении «некоторых причин». Во-первых, в самом начале VI кн. «Метафизики» Аристотель общим образом утвержда-ет,42 что у математических сущих имеются «начала/принципы и элементы, и причины». В ответ на это возражение Перейра поясняет, что математические вещи в самом деле обладают причинами и принципами – но не бытия, а, так сказать, познания, то есть в их отношении имеются те самые аксиомы, которые в силу некоторого подобия и сходства с истинными природными принципами и причинами именуются «математическими принципами». Во-вторых, в 7 гл. II кн. «Физики» Аристотель полагает,43 что причина в неподвижном, например, в математическом, сводится к чтойности, то есть к формальной причине. На что Перейра указывает, что сам же Аристотель поясняет там же, что под чтойностью в математическом он имеет в виду «определение прямого или соизмеримого» и тому подобного, иначе говоря, вместо формальной причины вещи в математике имеются некие «общие аксиомы», используемые в демонстрациях, которые по большей части являются определениями «математических объектов» или свойств, а потому и именуются формами в математическом. В-третьих, часто утверждают, что математика рассматривает материальную причину, потому что иногда она демонстрирует из частей некоторого целого (например, прямой угол как половинный от двух прямых, образованных полукругом), а часть является как бы материей целого. Согласно Перейре, материя используется здесь не в собственном смысле как природная материя или составная часть (вместе с формой) сложной природной субстанции, в каковом смысле она только и может быть материальной причиной, но в широком смысле – как какая угодно часть некоторого сложного целого. Только в последнем значении части, на которые разделяются математические объекты, могут быть названы материей целого, соответственно, если из них ведется доказательство, то можно сказать, что оно использует «материальную причину» в этом несобственном смысле. Впрочем, и само математическое количество часто несобственным образом обозначалось в перипатетической традиции как «мыслимая материя» (materia intelligibilis). В-четвертых, в любой математической демонстрации, которая основывается на некотором построении, мы говорим, что фигура или угол, или отрезок «произведены», «разделены», «совпадают», «возникли», следовательно, в математике используется род действующих причин. На это Перейра поясняет, что все подобные термины обозначают не истинное физическое движение, с которым всегда необходимо связана действенность истинной действующей причины, но «исключительно воображаемое и мыслимое [движение]», так что они указывают на такую действенность, которая «состоит только лишь в оформлении души и мышлении».44 В-пятых, очень часто математики говорят о красоте и доб- ротности видов фигур, порядке математических построений, соизмеримости частей математических объектов, но все эти термины указывают на благо или конечную причину. Перейра утверждает, что благо и красота являются в собственном смысле целью стремления и любви, т.е. конечной причиной, только, если они рассматриваются как актуально присущие самим вещам, а не содержатся лишь в нашем разумении. Но именно так математика вовсе не трактует о благе и красоте, поскольку она отвлекает в своем рассмотрении объективное содержание порядка и соизмеримости от любых вещей, которым оно может быть присуще, поэтому в такой математической абстракции ни порядок, ни соизмеримость не означают блага или красоты, следовательно, математика не пользуется целевой причиной. Точно так же, поскольку математические вещи принципиально отделены от актуального существования, они не могут заключать в себе никакого блага или цели, поскольку, согласно перипатетической традиции, благо (в отличие от истины) всегда пребывает в вещах.45 Это не означает, что сами математические дисциплины как таковые, т.е. как некоторые реальные «хабитусы» интеллекта, не могут обладать никакой целью или пользой, но лишь, что таковых нет в самих математических объектах или вещах. Наконец, последнее возражение состоит в том, что математика не может не быть наукой, коль скоро именно математическое доказательство обычно считается всеми наиболее превосходным или наилучшим видом демонстрации, а поскольку наука и есть демонстрация из причины, то в математике должно содержаться какое-то рассмотрение причин. Именно это сомнение Перейра считает наиболее затруднительным и достойным специального и развернутого ответа, поэтому он посвящает отдельную 4 главу III кн. своего трактата объяснению собственного мнения46 о том, являются ли математические демонстрации наиболее превосходными из всех, и содержатся ли в математике исключительно или по большей части наиболее совершенные демонстрации того вида, какой описывает Аристотель в I кн. «Второй аналитики».
Вопреки мнению многих перипатетических философов, а также гуманистов, Перейра дает на этот вопрос, как мы обоснованно можем предполагать из предыдущего анализа, отрицательный ответ. Мы лишь кратко укажем на некоторые дополнительные разъяснения, содержащиеся в его аргументации и важные для нашей темы. Перейра заранее подчеркивает, что его позиция касается именно «наилучшей демонстрации» (demonstratio potissima) в эпистемологическом смысле традиции комментариев ко «Второй аналитике», начиная с парафраза Фемистия. Итак, средним термином такой демонстрации должно выступать определение – либо подлежащего, либо доказываемого свойства; однако в большинстве математических демонстраций в качестве среднего вовсе не используется определение подлежащего или ис-комого/демонстрируемого, если же некие определения все же используются, то происходит это весьма редко, и они являются не внутренними (т.е. не определениями подлежащего или свойства), но внешними по отношению к собственно доказываемому (т.е. определениями в смысле общих аксиом относительно фигур или их свойств).47 Кроме того, математика переполнена «демонстрациями, сводящими к невозможности», каковые традиционно противопоставляются прямым или остенсивным, а только последние могут считаться примерами наилучшей демонстрации. Далее, в математике существует большое количество разных демонстраций одного и того же, отличающихся друг от друга лишь краткостью или разным числом средних терминов, что не представляет необходимого критерия для суждения о наилучшем доказательстве, тогда как наилучшая демонстрация чего-либо может быть лишь одна, точно так же, как и определение вещи – лишь одно.48 Наилучшая демонстрация использует лишь собственные средние термины, тогда как математика постоянно пользуется одними и теми же принципами (а также общими аксиомами) для совершенно разных демонстраций. Наконец, как показано выше, математика использует акцидентальные термины вместо сущностных предикатов и не демонстрирует свои теоремы из реальных причин присущности свойства.
Основные аргументы сторонников мнения о превосходстве и образцовости математической демонстрации, которые не могли быть оставлены без обсуждения и ответа – просто в силу распространенности и влиятельности этого мнения в традиции и среди современников иезуита, сводятся, согласно изложению Перейры,49 к двум: во-первых, превосходство некоторой демонстрации состоит в ее достоверности и очевидности, но именно математические демонстрации превосходят все прочие по достоверности и очевидности, что в особенности явно из того обстоятельства, что относительно математических демонстраций вовсе не существует такого многооб- разия и разногласия разных ученых мнений, каковые почти всегда имеются относительно физических и метафизических демонстраций. Во-вторых, наилучшая демонстрация исходит из таких принципов, которые одновременно более известны (notiora) и нам, и по природе; но таковые принципы содержатся лишь в математических дисциплинах, как полагают сторонники этого мнения. В ответ на первый аргумент Перейра поясняет, что необходимо делать следующую дистинкцию: в среднем термине демонстрации можно либо обращать внимание на «достоверность и очевидность вывода и доказательства в отношении нас или для нас», и согласно этому критерию в математических доказательствах присутствует «максимальная сила и пре-восходство»,50 почему они обычно и признаются образцом для всех иных наук, а математические знания традиционно вообще отождествляются с понятием «изучения/обучения» (mathesis); либо в среднем термине учитываются иные характеристики, которые в большей степени имеют отношение к природе «наилучшей демонстрации», а именно: является ли он первым и непосредственным, собственным и «предикатом через себя», а также причиной не только познания, но и бытия доказываемого свойства, и согласно этим характеристикам средние термины математических демонстраций вовсе не могут быть признаны удовлетворяющими критериям средних, необходимых для «наилучшей демонстрации», следовательно, в собственном смысле математика не содержит таковую. Иными словами, математические демонстрации превосходят демонстрации в иных науках вовсе не достоинством самой демонстрации как таковой, но наивысшей легкостью для обучения и порядком и связью демонстраций между собой. Перейра выделяет51 следующие причины того, что математические демонстрации наиболее достоверны и очевидны для нас, а также являются наиболее легкими для нашего обучения и понимания: подлежащее математики, т.е. количество, является объектом всех чувств (и общего чувства), поэтому любые средние термины и принципы, относящиеся к количеству, легко доступны и наивысшим образом явны нашим чувствам, чего нельзя утверждать ни о принципах, ни об объектах физики или метафизики. Кроме того, математические принципы в силу простоты и доступности для чувств не требуют для изучения ни долгого опыта, ни тщательного наблюдения, как принципы физики или, например, медицины. Наконец, математические объекты наиболее просты для абстракции от материи, т.е. для математического понимания как такового, ибо ни одна иная физическая акциденция не может быть абстрагирована от материи столь же просто – в силу большей – по сравнению с количеством – зависимости и связанности с определенной материей. Стоит специально отметить, что при сравнении трех теоретических дисциплин по достоверности в I кн. трактата52 Перейра, хотя и отдает первенство по «достоверности из природы самих вещей» (которое основывается на постоянстве и неизменности самих вещей) метафизике, поскольку именно она есть наука о нематериальных, наиболее актуальных и неизменных вещах и принципах, однако почти без колебаний утверждает первенство математического знания как наиболее «достоверного для нас», в особенности подчеркивая бóльшую ясность и очевидность математических аргументов для нашего интеллекта, которая столь велика, что математическая демонстрация, при условии, что она хорошо понята, не оставляет ни малейшего места ни для сомнения, ни для разногласия.53 Иными словами, и здесь ясность и достоверность, следующие из простоты и легкости понимания нами математических объектов, являются наибольшим преимуществом математического знания. Хотя, например, некоторая метафизическая демонстрация точно так же, если даже не в большей степени, чем математическая, исключает всякую возможность противоположного, однако ее термины и их связность, будучи по природе даже более простыми, чем количество, гораздо труднее воспринимаются человеческим интеллектом.
На второй аргумент сторонников образцовости математических демонстраций, приведенный выше, Перейра возражает,54 что математика не исходит в своих демонстрациях ни из «более известного по природе», ни даже из «более известного для нас», потому что порядок в серии математических демонстраций определяется вовсе не природным первенством или последовательностью между демонстрируемыми вещами, но большей или меньшей простотой и легкостью учения, т.е. порядком нахождения (ordine inventionis). Евклид располагает в изложении первыми именно те демонстрации, которые не требуют объяснения иных теорем для того, чтобы быть продемонстрированными, но, наоборот, необходимы для наиболее легкого объяснения и познания иных. Так называемый «геометрический порядок» определяется55 отнюдь не необходимостью принципов и не полнотой выводов, но легкостью схватывания и необходимостью удерживания и сохранения «постоянной и непрерывной серии и связи всех демонстраций», объединенных в излагаемом целом дисциплины. Именно нерушимость «удивительной непрерывности и последовательности математического по- рядка» диктует расположение и конкретное место для пропозиций и демонстраций в математике. Причем, поскольку внутренней или соотнесенной с вещами необходимости в этом порядке не заключено, он до некоторой степени обладает вариативностью и даже «произвольностью», каковая наблюдается в свободном искусстве. Но точно так же математика не демонстрирует и из «наиболее известного для нас», поскольку первое предложение Евклида не является более известным для наших чувств, чем второе или десятое, но сами по себе они равно неизвестны, а выстраиваются в порядок большей или меньшей известности для нас они лишь из-за расположения и порядка, установленного в изложении учения Евклидом. Единственное исключение, которое допускает Перейра из этого описания математического «искусства», состоит в оценке первых геометрических принципов и аксиом, которые излагаются во «вступлении» к геометрии: именно они более известны, чем все заключения, – как по природе, поскольку они суть первые, непосредственные и недемонстрируемые (propositiones per se notae), так и для нас, потому что мы сразу же схватываем интеллектом их истину из самих терминов без всякой демонстрации, либо с помощью простого описания или экспозиции. Если было бы возможно показать, что все математические демонстрации сводятся к этим аксиомам или разложимы на эти принципы, тогда можно было бы утверждать, что они выводятся из более известных для нас и по природе принципов,56 и только в этом случае можно было бы согласиться с аргументом противников, что по критерию одновременной известности для нас и по природе математические принципы превосходят принципы физического доказательства, поскольку последние, будучи более известны по природе, чаще всего менее известны нам.
Таким образом, как мы показали, для Перейры математическое знание вовсе не является теоретической наукой в собственном смысле, причем главные его аргументы в пользу этого тезиса сосредоточены отнюдь не на реальной акцидентальности объекта математики, т.е. количества, что было достаточно часто высказываемой претензией в перипатетической традиции, но на характере математической демонстрации, которая будучи несомненной и очевидной (а потому наиболее достоверной для нас , хоть и не по природе), тем не менее, является недостаточно связанной с самими вещами , т.е. лишена внутренней необходимости и является – такова, на наш взгляд, общая интенция рассуждения Перейры – скорее неким операциональным
(и вполне методическим) искусством , чем необходимым знанием истины из реальных причин.
Список литературы Конституция физики и достоверность математики в схоластической философии XVI в
- Baldini, U. (1992) Legem impone subactis. Studi su filosofia e scienza dei Gesuiti in Italia 1540-1632. Roma: Bulzoni.
- Baldini, U. (2003) "The Academy of Mathematics of the Collegio Romano from 1553 to 1612," in M. Feingold (ed.), Jesuit Science and the Republic of Letters, 47-98. Cambridge, London: The MIT Press.
- Blum, R.P. (2006) "Benedictus Pererius: Renaissance Culture at the Origins of Jesuit Science," Science & Education 15, 279-304.
- Blum, R.P. (2012) Studies on Early Modern Aristotelianism. Leiden, Boston: Brill.
- Cassirer, E. (1922), Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit. Bd. I. Berlin: Verlag Bruno Cassirer.
- Courtine, J.-F. (1990) Suarez et le système de la métaphysique. Paris: PUF.
- Constitutiones (1709) "Constitutiones Societatis Iesu," in Corpus Institutorum Societatis Iesu. Vol. I, 251-492. Antverpiae: apud Iohannem Meursium.
- Descartes, R. (1902) "Discours de la Méthode," in Ch. Adam et P. Tannery (publ.), Oeuvres de Descartes. Vol. 6, 1-78. Paris: Léopold Cerf.
- Descartes, R. (1905) "Principia Philosophiae," in Ch. Adam et P. Tannery (publ.), Oeuvres de Descartes. Vol. 8 (1 partie). Paris: Léopold Cerf.
- Folger-Fonfara, S. (2008) Das 'Super'-Transzendentale und die Spaltung der Metaphysik: Der Entwurf des Franziskus von Marchia. Leiden, Boston: Brill.
- Giaccobi, G. (1977) "Un gesuita progressista nell 'Quaestio de certitudine mathematicarum' rinascementale: Benito Peyrera," Physis 19, 51-86.
- Gilbert, P. (2014) "La preparazione della Ratio studiorum e l'insegnamento di filosofia di Benet Perera," Quaestio 14, 3-30.
- Heidegger, M. (1977) "Die Zeit des Weltbildes," in F.-W. v. Herrmann (hrsg. v.) M. Heidegger. Gesamtausgabe. I Abt., Bd. 5 (Holzwege). Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 75-95.
- Husserl, E. (1976) "Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie," in W. Biemel (hrsg. v.), Edmund Husserl. Gesammelte Werke. Bd. VI. Haag: Martinus Nijhoff.
- Kant, I. (1998) "Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft," in W. Weischedel (hrsg. v.) Immanuel Kant. Werke in sechs Bänden. Bd. V, 11-138. Darmstadt: WBG.
- Lamanna, M. (2009) "'De eo enim metaphysicus agit logice'. Un confronto tra Pererius e Goclenius," Medioevo 34, 315-360.
- Lamanna M. (2014) "Mathematics, Abstraction and Ontology: Benet Perera and the Impossibility of a Neutral Science of Reality," Quaestio 14, 69-89.
- Leinsle, U. G. (1985) Das Ding und die Methode. Methodische Konstitution und Gegenstand der frühen protestantischen Metaphysik. Teil I. Augsburg: MaroVerlag.
- В. Л. Иванов / ЕХОЛН Vol. 14. 1 (2020) 163
- Leinsle U.G. (2014) "Der Widerstand gegen Perera und seine Physik in der oberdeutschen Jesuitenprovinz," Quaestio 14, 51-58.
- Lohr, Ch. H. (1979) "Renaissance Latin Aristotle Commentaries: Authors N-Ph," Renaissance Quarterly 32.4, 529-580.
- Longeway, J. (2015) "The Place of Demonstratio potissima in some 16th-century Accounts of Mathematics," in J. Biard (éd.), Raison et démonstration. Les commentaires médiévaux sur les Seconds Analytiques (Studia artistarum 40), 223-242. Turnhout: Brepols.
- Mancosu, P. (1996) Philosophy of Mathematics and Mathematical Practice in the Seventeenth Century. New York, Oxford: Oxford University Press.
- Marrone, Fr. (2014) "Conoscenza e realtà. Benet Perera e la quaestio de primo cognito," Quaestio 14, 111-165.
- Palmieri, P. (2017) "On scientia and regressus," in H. Lagerlund and B. Hill (ed.), The Routledge Companion to Sixteenth Century Philosophy, 319-349. New York and London: Routledge.
- Pererius, B. (1579) De communibus omnium rerum naturalium principiis et affectionibus libri quindecim. Parisiis: Apud Micaelem Sonnium.
- Piccolomini, A. (1547) In mechanicas quaestiones Aristotelis Paraphrasis et Commentari-um de certutidine mathematicarum disciplinarum. Romae: Apud Antonium Bladum Asulanum.
- Thomas de Aquino (1992) "Super Boetium De Trinitate," in Sancti Thomae de Aquino Opera Omnia iussu Leonis XIII P.M. edita. Vol. L, 75-171. Roma, Paris: Comissio Leonina, Les Éditions du Cerf.
- Rompe, E. M. (1968) Die Trennung von Metaphysik und Ontologie. Der Ablösungsprozess und seine Motivierung bei Benedictus Pererius und anderen Denkern des 16. und 17. Jahrhunderts [Diss.] Universität Bonn.