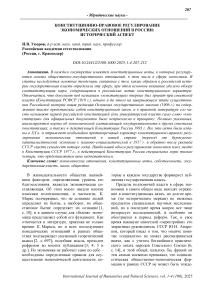Конституционно-правовое регулирование экономических отношений в России: исторический аспект
Автор: Упоров И.В.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Юридические науки
Статья в выпуске: 1-4 (100), 2025 года.
Бесплатный доступ
В каждом государстве имеются конституционные акты, в которых регулируются основы общественно-государственных отношений, в том числе в сфере экономики. В статье исследуются основные тенденции, связанные с тем, каким образом в российской истории государственная власть определяла эту сферу, при этом основное внимание уделено обзору соответствующих норм, содержащихся в российских актах конституционного характера. Отмечается, что документ под названием «конституция» впервые был принят при советской власти (Конституция РСФСР 1918 г.), однако и до этого на завершающем этапе существования Российской империи новая редакция Основных государственных законов (1906 г.) по содержанию также представляла собой конституционный закон, и в правовой литературе его часто называют первой российской конституцией (для императорской власти само слово «конституция» для официальных документов было неприемлемо в принципе). Помимо указанных, анализируются нормы об экономической составляющей государственности в других советских конституциях, а также в действующей Конституции России 1993 г. Все эти акты были изданы в ХХ в. и отражают необычайно противоречивый характер конституционно-правого регулирования экономических отношений в нашей стране (переход от буржуазно-капиталистической экономии к планово-социалистической в 1917 г. и обратно после распада СССР спустя семьдесят четыре года). Наибольший объем регулирования экономики имел место в Конституции СССР 1977 г., в действующей Конституции России специальных норм только четыре, что представляется явно недостаточным.
Экономические отношения, конституционные акты, собственность, государственная власть, закон, общество
Короткий адрес: https://sciup.org/170208977
IDR: 170208977 | DOI: 10.24412/2500-1000-2025-1-4-207-212
Текст научной статьи Конституционно-правовое регулирование экономических отношений в России: исторический аспект
В жизнедеятельности общества важнейшим фактором, определяющим уровень его благосостояния, является экономическая составляющая. Об этом много писали многие классики политэкономии, в частности, К. Маркс подчеркивал, что не сознание людей определяет их бытие, а наоборот, их общественное бытие определяет их сознание [1, с. 10], и в данном случае для «бытия» экономика представляет собой его фундамент. Как отмечается в литературе, практика не только времен К. Маркса, но и всех последующих поведенческих отношений в разных обществах подтверждает указанный теоретический вывод [2, с. 697]; подобная мысль проходит рефреном во многих публикация [3; 4; 5 и др.]. Но экономика не работает само по себе -необходимы определенные правила для осуществления экономической деятельности, ко- торые в каждом государстве формирует публичная государственная власть.
Пределы полномочий власти в сфере экономики в самом общем виде находят отражение в конституционных актах, но долгое время (по историческим меркам) не являлись предметом специальных научных исследований, но в последнее время вопрос все чаще интересует исследователей, и особенно он обостряется в период реформ. Так, в свое время накануне известной «перестройки» его затрагивал руководитель СССР Ю.Н. Андропов, который писал о том, что «нынче понятие «социализм» не может рассматриваться иначе, как с учетом богатейшего практического опыта народов Советского Союза» [6, с. 14], и этой общей, казалось бы, фразой он тем самым косвенно признавал, что социалистическая общественно-экономическая формация в рамках СССР не может быть тожде- ственной тем лекалам, которые очерчивали Карлом Марксом. Вероятно, смелее он не мог высказываться при монопольно правящей КПСС и монолитном идеологическом единстве советской правящей элиты того времени, но озабоченность глобальной проблемой советского государства после его смерти (1984 г.) была вполне обоснованной - ведь в результате наступившего экономического кризиса [7] и последующей указанной перестройки СССР распался, перестал существовать, и государственная власть уже в новой постсоветской России установила новые правила в сфере экономики, имея в виду прежде всего гражданско-правовые отношения, кардинально их изменив и закрепив в Конституции России 1993 г. [8].
В контексте конституционно-правового регулирования экономических отношений деятельность органов публичной власти приобретает особое значение и опять же прежде всего в период проведения экономических реформ, поскольку, как подчеркивает В.Э. Березко, «именно публичная власть служит основным гарантом их надлежащей реализации» [9, с. 87]. Этот тезис безусловно применим к современной России, где «в деле определения пределов государственного вмешательства в гражданско-правовые отношения необходимо взаимодействие публичной власти и гражданского общества» [10, с. 175]. Вместе с тем в истории российского конституционализма влияние экономического фактора складывается очень противоречиво, что имело место еще в Московском государстве, где регулирование всех сфер социальноэкономических отношений осуществлялось из единого центра, где главенствующая роль принадлежала единолично царю (а затем императору), и такой подход предопределял социально-экономический кризис [11, с. 29].
Разумеется, тогда не было правовых актов, определявших экономическую стратегию России. Но фактически государство жестко определяло правила в сфере осуществления экономической деятельности. Особенно наглядно политика государственной экономики была проявлена в период правления Петра I, который хотя и стимулировал предпринимательскую активность, но делал это в нужных ему направлениях (прежде всего для укрепления армии и флота), и зачастую сам определял «предпринимателей» (тех же Демидовых), что вело к отсутствию конкуренции и неэффективности многих экономических проектов; как следствие приходилось использовать подневольный труд крепостных крестьян и осужденных преступников [12, с. 109]. Для достижения экономических целей была реорганизована система государственного управления (исходя прежде всего из внешнеполитических задач), заметно повышена налоговая нагрузка на хозяйствующих субъектов и т.д. В результате наблюдался парадокс: при общем экономическом росте Россия в полной мере заявила о себе как о великой мировой державе-империи, но при этом население страны было уменьшено почти на четверть. Мы не беремся оценивать такого рода экономическую политику «насильственного прогресса» [13, с. 162], равно как не касаемся предпосылок и причин ее формирования (это отдельная тема), и лишь констатируем, что в петровскую эпоху в России был прочно закреплен тип государственномобилизационной экономики, который, по сути, в целом, в разных масштабах, оставался характерным всю последующую российскую историю (вплоть до начала 1990-х гг.) при всех изменениях политико-идеологического характера. Такой подход в экономике впоследствии вызвал критические отклики российских историков, государственных и общественных деятеле (П.Н. Милюкова, В.О. Ключевского, Л.Н. Толстого и др. (Толстой и вовсе называл императора «чудовищем» за вред, причиненный стране).
В послепетровское время жесткость прямого государственного управления экономикой была смягчена, и после отмены крепостного права к рубежу XIX-ХХ вв. наблюдалось в своей основе подобие капиталистической экономики. Однако, к примеру, уставы акционерных обществ утверждались властными инстанциями, то есть, действовал не уведомительный, а разрешительный принцип. А проекты Гражданского уложения, составляемые на европейский лад в течение всего XIX в. (без участия общественности), так и не стали в итоге действующими законами, и Российская империя осталась без единого, исходного закона, регулировавшего экономические отношения. Реформы социально-экономического характера не имели однозначно позитив- ных результатов. Так, «одним из следствий крестьянской реформы 1861 г. стало резкое падение производства на металлургических предприятиях, поскольку, получив «волю», значительная часть крепостных рабочих сразу же покинула эти предприятия, спад наблюдался и в сукноделии, где было много посессионных, крепостных мануфактур – лишь после 1875 г. произошло ускорение промышленного роста [14, с. 14].
Между тем к тому времени, на волне европейских буржуазных революций, уже разворачивалась эпоха конституций. В абсолютистской России принятие конституции было невозможно, и робкая попытка Александра I подтвердила это. К тому же разработанный в период его правления проект Государственной уставной грамоты Российской империи под руководством Н.Н. Новосильцева (1820 г.) не содержал норм о принципах экономической деятельности. Это касается и т.н. «Конституции Лорис-Меликова» (1881 г.). И лишь в Основных государственных законах (в редакции 1906 г.), считающимися первой российской конституцией [15, с. 24], имеются некоторые нормы, касающиеся экономических отношений. Так, согласно ст. 20 «Государь император издает непосредственно указы и повеления как в отношении имуществ, личную ею собственность составляющих, так равно в отношении имуществ, именуемых государевыми, кои, всегда принадлежа царствующему императору, не могут быть завещаемы, поступать в раздел и подлежать иным видам отчуждения. Как те, так и другие имущества не подчиняются платежу налогов и сборов» [16]. В главе о правах и обязанностях российских поданных указывалось (ст. 35,36), что «каждый российский подданный имеет право … приобретать и отчуждать имущество … Собственность неприкосновенна. Принудительное отчуждение недвижимых иму-ществ, когда сие необходимо для какой-либо государственной или общественной пользы, допускается не иначе, как за справедливое и приличное вознаграждение» [16]. Некоторым образом в главе о Госдуме и Госсовете затрагивается вопрос о государственной росписи (то есть, госбюджете), в частности, согласно ст. 74 «если государственная роспись не будет утверждена к началу сметного периода, то остается в силе последняя, установленным порядком утвержденная, роспись, с теми лишь изменениями, какие обусловливаются исполнением последовавших после ее утверждения узаконений» [16]. Но целенаправленного регулировании экономических отношений нет.
Совершенно иной и четкий подход с точки зрения конституционного регулирования экономических отношений был у советской власти, которая определяла экономический строй в конституционных актах, где отвергалась буржуазная (капиталистическая) экономика. Так, в Конституции РСФСР 1918 г. (ст. 3) указывается, что «в осуществление социализации земли частная собственность на землю отменяется и весь земельный фонд объявляется общенародным достоянием и передается трудящимся без всякого выкупа, на началах уравнительного землепользования … Все леса, недра и воды общегосударственного значения, а равно и весь живой и мертвый инвентарь, образцовые поместья и сельскохозяйственные предприятия объявляются национальным достоянием …. Как первый шаг к полному переходу фабрик, заводов, рудников, железных дорог и прочих средств производства и транспорта в собственность Советской рабоче-крестьянской Республики подтверждается советский закон о рабочем контроле и о Высшем Совете Народного Хозяйства в целях обеспечения власти трудящихся над эксплуататорами» [17].
В Конституции СССР 1936 г. экономическая политика регулируется еще более подробно и последовательно, в частности в ст. 4 указывается: «Экономическую основу СССР составляют социалистическая система хозяйства и социалистическая собственность на орудия и средства производства, утвердившиеся в результате ликвидации капиталистической системы хозяйства, отмены частной собственности на орудия и средства производства и уничтожения эксплуатации человека человеком» [18]. Но наиболее наглядно это было сделано в Конституции СССР 1977 г. (в отдельно главе 2) – здесь провозглашалась плановая экономика; собственность на средства производства могла быть только государственной и колхозно-кооперативной; земля, недра, воды, леса объявлялись собственностью государства, указывался также статус личной собственности граждан. А согласно ст. 14, 15 «источником роста общественного богатства, благосостояния народа и каждого советского человека является свободный от эксплуатации труд советских людей … Общественно полезный труд и его результаты определяют положение человека в обществе. Государство, сочетая материальные и моральные стимулы, поощряя новаторство, творческое отношение к работе, способствует превращению труда в первую жизненную потребность каждого советского человека … Высшая цель общественного производства при социализме – наиболее полное удовлетворение растущих материальных и духовных потребностей людей» [19].
Однако если сравнить экономическую политику того же Петра I и СССР, то в обоих случаях наблюдается, если предельно упростить, централизованная государственная экономика, управляемая из единого центра – в первом случае таковым был лично император, во втором случае - высшие органы власти (ВС СССР, СМ СССР). В обоих случаях государство брало на себя ведущие отрасли экономики (промышленность практически на 100%). Если отмечать различия, то, помимо разных целеполаганий, в первом случае имело место сословное неравенство, но допускалась частнопредпринимательская деятельность; во втором случае было социальное равенство, но частнопредпринимательская деятельность запрещалась. Какая экономика оказалась эффективнее? Российская империя существовала почти 300 лет, советское государство – 74 года.
После распада СССР российский народ одобрил новую Конституцию РФ 1993 г. Здесь отвергается предшествовавшая плановая экономика и осуществлен возврат к капиталистической экономике на современных политико-демократических условиях. Однако соответствующие нормы Конституции РФ небольшие по объему, и, по сути, осуществленный фундаментальный экономический поворот в главе 1 («Основы конституционного строя») охвачен лишь двумя статьями с общими принципами рыночной экономики (ст. 8 и 9). Нормы экономического характера содержатся и в других главах, касающиеся, в частности, свободы предпринимательской деятельности, гарантий права частной собственности (ст. 34.35).
Но выраженного блока о российской экономике в российской Конституции нет. В этой связи в литературе справедливо ставится вопрос о том, что экономическая политика России должна найти в Конституции РФ более объемное регулирование [20, с. 204], при этом приводятся примеры, как это делается в конституциях других страна – Турции, Мексике, Колумбии, Португалии, Боливии и др. – везде конституционное регулирование заметно объемнее и более четкое, чем в России, например, в Конституции Боливии имеется запрет на концентрацию экономической власти, которая может угрожать экономической независимости государства [21, с. 57]. Значительное место экономике отводится в Конституции КНР, где внимание акцентируется, в частности, на коллективной собственности.
Как представляется, отсутствие в Конституции России экономического блока способствовало существенным негативным последствиям, поскольку за пределами Конституции экономические отношения регулировались законами, а в начале 1990-х гг., в период известного противостояния Верховного Совета РФ и Президента РФ Б.Н. Ельцина, они в значительной степени определялись президентскими указами, в том числе это касалось решений по ключевым вопросам, и прежде всего связанных с приватизацией государственного имущества, оставленного после распада СССР. В результате в стране с неожиданной быстротой появились миллиардеры, прибравшие к рукам советское наследство вопреки общественным интересам, пошел процесс стремительного имущественного расслоения общества, неконтролируемое обществом смешение политической и экономической власти и т.д. Известный российский конституционалист О.Е. Кутафин в 2008 г. высказал суждение о том, что «у сегодняшней России два разных лица: одно – преуспевающее, бьющее в глаза своей роскошью, и второе – кричащая бедность и неустроенность. Мы никогда не построим ни конституционного, ни правового государства, если его экономический базис будет носить криминальный характер. Сегодня главной причиной хронического неблагополучия в стране является несправедливое распределение собственности, созданной всем народом, а оказавшейся в руках считанного количества приближенных к власти» [22, с. 342]. Такое положение, когда даже имеющиеся в Конституции России нормы (о той же «равной» защите всех видов собственности) не всегда соблюдаются, не дает возможности рассчитывать на стабильное экономическое развитие.
И не случайно сделанный в 1994 г. прогноз известного экономиста Л.А. Абалкина о том, что к 2020 г. Россия «войдет в число высокоразвитых стран по уровню экономического и социального развития [23, с. 240-245] не оправдался. Довольно сложное положение экономики России и в настоящее время, отя- гощенное известными военно-политическими событиями. Совершенно очевидно, что российская Конституция нуждается в более конкретном и четком конституционном регулировании экономической стратегии, частично, в очень малой степени, это сделано конституционными поправками-2020. Но перед тем, когда придет время разработки новой Конституции РФ (а оно придет, и, вероятно, в скором времени), следует, очевидно, подвести все же итог (с правовой точки зрения) по упомянутой выше приватизации госимущства в 1990-х гг., учитывая, что это было сделано с серьезными нарушениями принципа справедливости, для чего целесообразно создать специальную комиссию из представителей депутатского корпуса, общественности, бизнеса. Важно также учесть, что в России в силу ее исторического развития главенствовал тип государственной экономики, и резкий разворот к либеральной экономике, как сейчас видно, оказался неэффективным. Поэтому ведущие отрасли экономики, очевидно, должны управляться государством, но при этом руководство госкорпо- рациями следует утверждать в порядке, как, например, правление ЦБ РФ. Давно пора набраться смелости и ввести правило, чтобы все граждане России получали часть доходов от реализации природных богатств (как в Саудовской Аравии, Норвегии и др.). Эти и другие позиции в данном направлении в будущей Конституции России, на наш взгляд, позволят повысить эффективность экономики и лучше учесть исторические традиции России.
Список литературы Конституционно-правовое регулирование экономических отношений в России: исторический аспект
- Маркс К.К критике политической экономии. Предисловие // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения: в 50-ти т. - М.: Политиздат, 1959. Т. 13. С. 1-167.
- Черешнев В.А., Иваницкий В.П. Карл Маркс - мыслитель и творец будущего // Экономика региона. - 2018. - № 3. - С. 688-698.
- Терри И. Почему Маркс был прав / Пер. с англ. П. Норвилло. - М.: Карьера Пресс, 2013. - 304 с.
- Сынкова А.Д. Анализ базовых аспектов капитализма в работах Карла Маркса // Скиф. - 2023. - № 3. - С. 17-22.
- Зефиров В.И. Экономическое наследие прошлого и современность: 140 лет со дня рождения Д. Кейнса и 140 лет со дня смерти К. Маркса // Вестник Академии знаний. - 2024. - № 2. - С. 168-172.