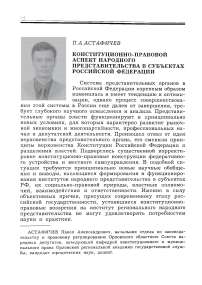Конституционно-правовой аспект народного представительства в субъектах Российской Федерации
Автор: Астафичев Павел Александрович
Журнал: Регионология @regionsar
Рубрика: Проблемы федерализма
Статья в выпуске: 4 (49), 2004 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются проблемы общественного представительства, возникающие в связи с последними законодательными инициативами Президента Российской Федерации.
Короткий адрес: https://sciup.org/147222897
IDR: 147222897
Текст научной статьи Конституционно-правовой аспект народного представительства в субъектах Российской Федерации
Система представительных органов в Российской Федерации коренным образом изменилась и имеет тенденцию к оптимизации, однако процесс совершенствова ния этой системы в России еще далек от завершения, требует глубокого научного осмысления и анализа. Представи тельные органы власти функционируют в принципиально новых условиях, для которых характерно развитие рыночной экономики и многопартийности, профессиональных начал в депутатской деятельности. Произошел отказ от идеи верховенства представительного органа, его сменили принципы верховенства Конституции Российской Федерации и разделения властей. Подверглись существенной корректировке конституционно-правовые конструкции федеративного устройства и местного самоуправления. В подобной ситуации требуются принципиально новые научные обобщения и выводы, касающиеся формирования и функционирования институтов народного представительства в субъектах РФ, их социально-правовой природы, властных полномочий, взаимодействия и ответственности. Именно в силу объективных причин, присущих современному этапу российской государственности, устоявшиеся конституционноправовые воззрения на институт регионального народного представительства не могут удовлетворять потребностям науки и практики.
АСТАФИЧЕВ Павел Александрович, начальник отдела по законодательству и правовому регулированию Орловского областного Совета народных депутатов, заведующий кафедрой конституционного и муниципального права Орловской региональной академии государственной службы, кандидат юридических наук, доцент.
Имеется противоречие между конституционной сущностью федеративной демократии и ее реальным функционированием в современной России. Оно носит диалектический характер и служит источником развития правовой теории, законодательства и правоприменительной практики. В связи с этим в науке конституционного права требуется не только существенное уточнение отдельных понятий и взглядов на проблему реализации народного суверенитета в федеративном государстве, но и разработка комплексной концепции конституционно-правового регулирования, охраны и защиты общественных отношений, связанных с организацией деятельности законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов федерации.
Следует подчеркнуть, что система народного представительства не является адекватной формой выражения суверенитета народа: для этого требуется соблюдение ряда условий. К их числу мы относим демократичность выборов, репрезентативность избирательной системы, весомое место выборного должностного лица и парламента в структуре политических отношений, наличие совершенного конституционно-правового механизма регулирования статуса и порядка деятельности представительных органов, их ответственности перед гражданским обществом, а также реализацию соответствующих конституционно-правовых норм в общественно-политической практике. Выражение суверенитета народа через народное представительство — цель, а не состоявшийся факт. К этому должна стремиться вся система правового регулирования конституционно-правовых отношений, однако на практике такого может и не быть.
Каждый из перечисленных факторов является значимым применительно к проблеме выражения суверенитета народа через систему народного представительства на региональном уровне. Имеются основания полагать, что нейтрализация действия хотя бы одного из этих факторов служит причиной постепенного разрыва между суверенитетом народа и народным представительством, превращению их хотя и во взаимосвязанные, но автономные конституционноправовые ценности. В итоге народное представительство может выполнять лишь декоративную функцию, далекую от его подлинно демократического предназначения.
Фактор демократичности выборов означает соблюдение принципов всеобщности, равенства, тайности, периодичности и гласности избирательной системы. Значительное количество избирательных цензов, необоснованные отказы в регистрации кандидатов, разное количество и различный «вес» голосов избирателей при неравенстве избирательных округов, дискриминационные условия участия в выборах кандидатов, избирательных объединений и блоков, незаконные системы контроля за волеизъявлением граждан, излишне продолжительные сроки полномочий представительных органов, противоправное продление сроков легислатуры, «закрытый» режим функционирования избирательных комиссий и других организаторов выборов препятствуют выражению народного суверенитета через систему народного представительства, понижают ее демократический потенциал.
Не менее отрицательное воздействие на реализацию суверенитета народа через систему народного представительства оказывает применение нерепрезентативных избирательных систем. Так, мажоритарная избирательная система относительного большинства голосов избирателей, длительное время применявшаяся в СССР, в современных условиях конкуренции кандидатов и политических партий может привести к объективным «сбоям», когда меньшинство избирательного корпуса якобы представляется большинством в составе представительного органа. Выражению суверенитета народа, при определенных условиях, может воспрепятствовать также высокий заградительный пункт в процессе применения пропорциональной системы выборов.
Народный суверенитет слабо выражается через систему народного представительства в случае номинальной роли выборного должностного лица или парламента в системе разделения властей. Народные представители, излишне ограниченные в своих полномочиях и не имеющие реальной возможности воздействовать на государственную политику, неизбежно теряют свой авторитет в глазах избирателей и способствуют подрыву доверия граждан к власти в целом1 В условиях правового государства представительные органы не могут пониматься как единственные выразители народного суверенитета, однако каждая ветвь госу- дарственной власти должна иметь демократическую легитимацию2 и в известной степени быть подконтрольной представительной власти3. Наличие института выборных должностных лиц в субъектах РФ смещает акценты в распределении властных полномочий «по горизонтали», однако это не должно ставить под сомнение необходимость значительных властных полномочий коллегиальных представительных органов.
Наконец, народное представительство есть форма выражения суверенитета народа лишь в условиях конституционного строя, который предполагает эффективный механизм регулирования статуса и порядка деятельности представительных органов, их ответственности перед гражданским обществом. Народное представительство, не гарантированное и не связанное правом, в современных условиях не может квалифицироваться в качестве адекватной формы выражения народного суверенитета. Конституционный закон регулирует компетенцию представительных органов, их внутреннюю организацию и порядок деятельности. Вне подобных механизмов возникает вероятность вмешательства парламента в компетенцию исполнительной и судебной власти, неупорядоченности его деятельности, что неизбежно повлечет нарушение прав и законных интересов граждан, воли народа в целом. Издавая обязательные для судов законы, парламент подконтролен судебной власти4, в особенности судебным органам конституционного контроля при отклонении от «позитивистской юрисдикции» и возвышении «уровня абстрактности рассуждений»5 Конституционная ответственность представительного органа служит средством обеспечения доверия граждан к власти6 Механизм конституционно-правового регулирования и обеспечения функционирования представительной власти способствует реализации народного суверенитета. Влияние этого фактора возрастает в условиях современной России, избравшей путь демократического развития, построения правового государства и гражданского общества.
Изложенные выше соображения нуждаются в конкретизации применительно к проблеме функционирования народного представительства в субъектах РФ. Система народного представительства в субъектах федерации отличает- ся, во-первых, сочетанием двухпалатной и однопалатной структуры регионального парламента, во-вторых, фрагментарным опытом организации конституционных (уставных) судов субъектов федерации. С предпринятой Президентом Российской Федерации инициативой по укреплению единства системы исполнительной власти появилась еще одна особенность народного представительства в регионах: новый способ формирования института высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов) субъектов РФ, предполагающий совместное участие главы государства и коллегиальных представительных органов на уровне субъектов РФ в избрании соответствующих должностных лиц. В результате количество выборных органов в субъектах РФ будет сужаться и, следовательно, возрастет политико-правовая роль законодательных (представительных) органов субъектов РФ в системе разделения властей. Это требует особо взвешенных подходов к правовому регулированию общественных отношений, а также в конституциях (уставах) и текущих законах субъектов РФ.
И декабря 2004 г. был принят закон «О внесении изменений в Федеральный закон „Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и в Федеральный закон „Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"». Этим ознаменовался важный этап в развитии отечественной федеративной системы, которому предшествовали тщательная разработка законопроекта, его обсуждение в субъектах РФ, обобщение ряда замечаний и предложений, поиск компромиссных правовых решений. Эти обстоятельства должны были положительно отразиться на качестве итогового документа, однако он по-прежнему нуждается в совершенствовании, вызывает критические суждения, сложен для реализации и применения. Видимо, причинами этого явления послужили недостаточная изученность соответствующей проблематики в российской конституционно-правовой науке, отсутствие выверенной методики регулирования данных общественных отношений, незавершенный поиск целей, задач и принципов их регламентации.
В юридической литературе отмечается, что «меры, связанные с новой концепцией субъекта федерации, реализовать очень трудно, а в современных условиях практически невозможно. Этого можно добиться лишь через ряд промежуточных шагов. Но и для таких шагов нужно видеть стратегическую цель, разрабатывать пути ее достижения хотя бы с теоретических позиций»7 Каковы же цели федерального регулирования общих принципов организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов федерации? И какие шаги требуется предпринять, чтобы добиться (хотя бы частично) достижения этих целей?
Основной целью федерального регулирования упомянутой группы общественных отношений, на наш взгляд, должно стать обеспечение разумного баланса между полномочиями федерации и ее субъектов. Так, предмет регулирования Федерального закона «Об общих принципах...» в основном совпадает с предметом конституций (уставов) и некоторых законов субъектов РФ, поэтому всякий раз, когда федеральный законодатель снабжает этот закон новыми нормами и процессуальными подробностями, законодательные акты субъектов федерации все более утрачивают свой регулятивный потенциал. С другой стороны, будучи суверенным государством, федерация не может оставить без внимания общие принципы организации публичной власти в ее субъектах, особенно когда это касается гарантирования верховенства федеральных правовых актов, обеспечения единства системы государственной власти, а тем более — защиты безопасности и территориальной целостности России8
Таким образом, стратегическая цель состоит в нахождении разумного баланса. Она изначально противоречива, решающее значение приобретает субъективная оценка «разумности» того или иного подхода с учетом конкретной общественно-политической ситуации, отечественных традиций и общемировых тенденций. Сказанное, однако, нельзя истолковывать в пользу допустимости противоречивых правовых предписаний, которые, к сожалению, имеются в Федеральном законе «Об общих принципах...».
Например, п. 1 ст. 1 закона фиксирует важнейший принцип установления полномочий государственных органов субъектов федерации только законом, но в п. 1 ст. 26.1 обнаруживается, что полномочия этих органов могут определяться также подзаконными нормативно-правовыми актами, если они приняты в соответствии с законом. Другой пример: п. 4 ст. 17 устанавливает, что перечень исполнительных органов субъекта РФ определяется высшим должностным лицом (руководителем высшего исполнительного органа) субъекта РФ в соответствии с его конституцией (уставом), а подп. «м» п. 2 ст. 5 — что структура исполнительных органов субъектов РФ устанавливается законом субъекта РФ. Возникает вопрос, каким образом региональный законодатель должен установить структуру исполнительных органов субъекта РФ, минуя упоминание об их перечне? Подобное противоречие неизбежно порождает споры между законодательной и исполнительной властью в регионах.
Впрочем, наличие юридико-технических неточностей в тексте этого закона — лишь одна из проблем, сравнительно легко устранимых федеральным законодателем. Имеется ряд гораздо более сложных вопросов, обусловленных методологией правового регулирования федеративных отношений. К их числу мы относим проблемы конституционного (уставного) и текущего нормотворчества субъектов РФ, системы и статуса государственных органов субъектов федерации, взаимодействия федеральной и региональной публичной власти, разграничения между ними полномочий и ответственности.
Общеизвестно, что Конституция РФ является правовым актом высшей юридической силы, выражающим волю многонационального народа России. Никто не станет оспаривать правомерность конституционных норм, полагая незыблемым принцип государственного суверенитета Российской Федерации. Из этого вытекают важнейшие юридические свойства Конституции РФ: верховенство, прямое действие, неподверженность частым изменениям и дополнениям9, высокая степень нормативного обобщения. Конституцию РФ отличает не только особый предмет правового регулирования (базовые общественные отношения, складывающиеся во всех сферах жизнедеятельности общества)10, но и специфическая функция, состоящая в установлении принципи- ально важных, фундаментальных правовых норм, рассчитанных на долгосрочную перспективу. Все это считается очевидным применительно к Конституции Российской Федерации, но можно ли те же выводы распространить на конституции (уставы) субъектов РФ? В большинстве случаев на поставленный вопрос мы получаем отрицательный ответ.
Конституции (уставы) субъектов РФ не обладают высшей юридической силой. Они имеют лишь повышенную силу относительно текущего регионального законодательства и подзаконных правовых актов (причем не всех, а лишь региональных и муниципальных). Как правило, они находятся в отношении субординации к правовым предписаниям федеральных государственных органов (за исключением случаев, установленных ст. 76 Конституции РФ и редко возникающих на практике). Региональные конституции (уставы) связаны предметами ведения субъектов РФ и не могут вторгаться в исключительную сферу компетенции не только самой федерации, но и муниципальных образований.
Пребывание России, по меткому выражению В.Т.Кабышева, в «своего рода романтическом конституционализме»11 приводило к весьма примечательным заблуждениям. Некоторые представители науки и практики полагали, что конституции (уставы) субъектов РФ должны соответствовать Конституции РФ, федеральным конституционным и федеральным законам, но могут игнорировать правовые нормы, содержащиеся в указах Президента РФ, постановлениях Правительства РФ и иных нормативных правовых актах федеральных органов государственной власти. Такой подход вначале был заблокирован Конституционным Судом РФ12, а затем и федеральным законодателем (п. 3 ст. 3 Федерального закона «Об общих принципах...»).
Разумеется, нельзя исключать случаи, когда соответствующий суд может признать, что федеральный правовой акт вторгается в сферу исключительного ведения субъекта федерации и, следовательно, его конституция (устав) окажется по юридической силе выше, чем федеральный правовой акт. Однако принципиальное значение имеет не форма правового акта (закон или подзаконный акт) и даже не субъект правотворчества (Государственная Дума, Президент
РФ, Правительство РФ, министерство РФ), а предмет правового регулирования (ведение федерации, совместное ведение, исключительное ведение субъекта РФ).
Можно рассуждать и таким образом: если нормативный правовой акт какого-либо министерства РФ принят в пределах ведения федерации, он обладает верховенством по отношению к конституции (уставу) субъекта РФ; если федеральный конституционный закон регулирует правоотношения, относящиеся к области исключительного ведения субъекта РФ. верховенством будет обладать конституция (устав) субъекта РФ13 Однако это противоречит здравому смыслу и нарушает общность природы Конституции РФ и конституций (уставов) субъектов федерации как «актов высшего правового предназначения»14.
Таким образом, механизмы ст. 71—73, 76 Конституции РФ не дают надежных гарантий децентрализованного, но соединенного в единую систему законодательства РФ и ее субъектов15 Здесь не следует надеяться и на защиту Конституционного Суда РФ, поскольку у него недостаточно полномочий для широкомасштабного признания федеральных правовых актов, противоречащих Конституции РФ, ввиду их вторжения в исключительную компетенцию субъектов федерации. Требуется, чтобы принципиальным образом изменилась законодательная политика, чтобы воля федеральных государственных органов направлялась на действительное разграничение полномочий и ответственности между федеральными органами государственной власти и ее субъектов16 Выход, на наш взгляд, заключается в установлении на уровне федерального закона (а лучше — Конституции РФ) предметов регулятивной компетенции, реализуемых исключительно в конституциях (уставах) субъектов РФ, и прямого запрета для федеральных государственных органов вмешиваться в эту компетенцию.
На общем фоне централизаторских тенденций (в своем большинстве вполне обоснованных, т.к. даже в самом децентрализованном федеративном государстве совершенно недопустимо игнорирование субъектами федерации требований федеральных нормативно-правовых актов)17 имеются и обратные процессы. Они отчетливо прослеживаются в отдельных нормах Федерального закона «Об общих принци- пах...». В частности, закон устанавливает предметы регулятивной компетенции, которые должны быть реализованы исключительно в конституциях (уставах) субъектов РФ. Условно их можно сгруппировать по предметам компетенции: в отношении статуса законодательного (представительного) органа субъекта РФ, высшего должностного лица или руководителя высшего исполнительного органа субъекта РФ, высшего исполнительного органа субъекта РФ, законодательной процедуры и порядка взаимодействия ветвей власти.
Однако здесь имеется немало проблем юридико-технического и содержательного свойства. Например, обязанность субъектов РФ установить в конституции (уставе) срок полномочий депутатов представительного органа упоминается в Федеральном законе «Об общих принципах...» дважды — в п. 5 ст. 4 и в п. 4 ст. 10. Следуя этому принципу, федеральный законодатель сам обязывает органы государственной власти субъектов РФ к дублированию правовых норм: такие предписания обнаруживаются, например, в п. 1 и 2 ст. 8. Следовательно, срок, в течение которого закон, принятый представительным органом субъекта РФ, направляется высшему должностному лицу (руководителю высшего исполнительного органа) субъекта РФ, а также срок, в течение которого высшее должностное лицо обязано подписать или отклонить принятый закон, должен устанавливаться в конституции (уставе) субъекта РФ и непременно дублироваться в одном из региональных законов18
Федеральный законодатель без должных к тому оснований варьирует такие приемы правового регулирования, как обязывание субъекта федерации к установлению правовой нормы: в конституции (уставе) и законе субъекта РФ; в конституции (уставе) или законе субъекта РФ; в конституции (уставе) и (или) законе субъекта федерации. Первый из приемов допустим, когда требуется, чтобы общие основы закладывались в конституции (уставе) субъекта РФ. а подробности регулировались законом (например, в случае регламентации статуса депутата законодательного органа). Однако этот метод нельзя использовать, когда речь идет о более конкретных правовых предписаниях, лишенных регулятивных свойств (срок полномочий, число депутатов, наименование органа). Второй прием диспозитивен, он ос- тавляет за субъектом РФ некоторую свободу усмотрения (регулировать правоотношения в конституции (уставе) или в законе субъекта РФ), но запрещает их регламентацию в подзаконных нормативно-правовых актах. Что касается третьего приема, то его суть еще более диспозитивна (или «и», или «или»). Недопустимость подзаконного регулирования правоотношений сохраняется, но региональный законодатель получает большую свободу выбора: регулировать правоотношения в конституции (уставе), либо регламентировать их в текущем законодательстве, или сочетать одно с другим. Последний подход нам представляется предпочтительным в большинстве случаев.
Анализ содержания Федерального закона «Об общих принципах...» приводит к выводу, что этот нормативный правовой акт недостаточным образом приспособлен к парламентарной форме правления в субъектах РФ и, по-видимо-му, с течением времени будет пересмотрен. Это касается не только порядка формирования, но и процедуры взаимодействия законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ. Более того, необходима комплексная ревизия федерального и регионального законодательства, направленная на исследование базовых положений, включая используемую в субъектах федерации избирательную систему.
Общеизвестно, что с парламентарной формой правления наиболее удачно сочетается пропорциональная избирательная система. В связи с этим заслуживают положительной оценки новации в избирательном законодательстве, которые обязывают формировать не менее чем половину состава законодательных (представительных) органов субъектов РФ по пропорциональной системе19. Однако при этом нельзя не заметить важное обстоятельство, заслуживающее внимания в современной конституционно-правовой науке и практике.
Проект федерального закона № 93081-4 «О внесении изменений в Федеральный закон „Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и в Федеральный закон „Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"» предполагает, что в случае повторного несогласия законодательного (представительного) органа субъекта РФ с кандидатурой высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа) субъекта РФ, которая внесена Президентом РФ, законодательный (представительный) орган субъекта федерации подлежит роспуску указом Главы государства.
В результате возможна коллизия: если Глава российского государства является представителем одной политической партии, а квалифицированное большинство депутатов в законодательном (представительном) органе субъекта РФ принадлежит к другой, то депутаты региональных парламентов оказываются в весьма сложном положении. Согласиться с кандидатурой от конкурирующей политической партии они не могут под угрозой потери доверия избирателей, но в случае повторного несогласия с предложенной кандидатурой им придется расстаться с депутатскими полномочиями. Если электоральные предпочтения в субъекте РФ достаточно устойчивы, то новые выборы в законодательный (представительный) орган субъекта федерации приведут к тому же результату, и противоречие в политических позициях не ослабится.
Это противоречие, на наш взгляд, разрешимо посредством согласительных процедур, а также корректировки нормативного содержания Федерального закона «Об общих принципах...» на основе уже имеющегося конституционного опыта России, связанного с регулированием порядка взаимодействия Президента РФ и Государственной Думы при формировании Правительства России. Было бы целесообразно в Федеральном законе «Об общих принципах...» установить, что лишь троекратное отклонение законодательным (представительным) органом субъекта РФ кандидатуры, внесенной Главой государства, влечет за собой роспуск регионального парламента. Однако это правовое последствие (роспуск представительного органа) должно быть сформулировано в императивной форме, т.е. троекратное отклонение должно автоматически влечь за собой роспуск представительного органа и назначение новых выборов. Этот механизм вынуждает, в том числе конкурирующие политические партии, к поиску компромиссов и взаимоприемлемых решений. Предложенный же проект федерального закона предполагает излишне мягкую форму, при которой у
Президента РФ имеется дискреционное полномочие в случае двукратного отклонения кандидатуры высшего должностного лица, либо распустить региональный парламент, или воздержаться от каких-либо действий.
В заключение следует отметить, что, несмотря на отдельные спорные положения, концепция внесенного Президентом РФ проекта федерального закона № 93081-4 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и в Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» заслуживает положительную оценку. Она позволяет сочетать механизмы федеральной и региональной ответственности высших должностных лиц субъектов РФ, усиливает полномочия законодательных (представительных) органов субъектов РФ и тем самым создает более прочные гарантии баланса властных полномочий на региональном уровне. По крайней мере в переходный период развития отечественной политической системы такой механизм формирования высших должностных лиц субъектов федерации должен продемонстрировать свои положительные свойства. В дальнейшем по мере стабилизации политических отношений, развития федерализма и самоуправления возможен переход к самостоятельному формированию органов публичной власти в субъектах РФ и муниципальных образованиях посредством прямых выборов либо волеизъявления народных представителей. Однако это возможно лишь в условиях безусловного государственного единства, четко разграниченных предметов ведения между Российской Федерацией и ее субъектами, а также налаженного конституционного механизма взаимодействия федеральных и региональных органов публичной власти, основанного на демократических принципах свободы и ответственности.
Список литературы Конституционно-правовой аспект народного представительства в субъектах Российской Федерации
- Байтин М.И. Единство естественного и позитивного права - основа обеспечения прав и свобод человека // Права человека: пути их реализации. Саратов, 1999. Ч. 1. С. 80. Народное представительство в субъектах РФ
- Михельс Н. Основной Закон Федеративной Республики Германии (краткая характеристика) // Государство и право. 2003. № 7. С. 69.
- Автономов А.С. Процедуры парламентского контроля в Российской Федерации // Парламентские процедуры: проблемы России и зарубежный опыт / Под ред. С.А.Авакьяна. М., 2003. С. 151.
- Поляков С.Б. К вопросу о независимости суда // Государство и право. 2000. № 10. С. 85.
- Визер Б., Будер И. Принцип правового государства в конституционном правосудии Австрии // Государство и право. 1999. № 11. С. 59.