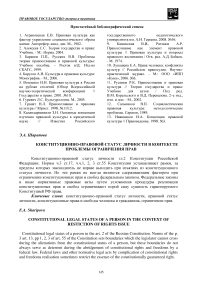Конституционно-правовой статус личности в контексте проблемы ограничения прав
Автор: Шарипова Э.А.
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Научные сообщения
Статья в выпуске: 3 (33), 2013 года.
Бесплатный доступ
Конституционно-правовой статус личности гл.2 Конституции Российской Федерации. Нормы ч.3 ст.17, ч.ч.1, 2, 3 ст.55 Конституции устанавливает рамки, за пределы которых законодатель не вправе выходить при изъятиях из конституционного статуса личности. Но эти рамки не всегда являются сдерживающим фактором при ограничении конституционных прав и свобод федеральным законом. Федеральные законы и иные нормативные правовые акты путем усложнения процедуры реализации конституционных прав и свобод ограничивают порой саму сущность гарантируемого Конституцией РФ права.
Конституционно-правовой статус личности, правовой статус личности, конституционные права и свободы человека и гражданина, ограничение прав
Короткий адрес: https://sciup.org/142233626
IDR: 142233626
Текст научной статьи Конституционно-правовой статус личности в контексте проблемы ограничения прав
В декабре 2013 года исполняется 20 лет Конституции РФ, принятой 12 декабря 1993 г.. Гл.2 Конституции Российской Федерации, соответствующая по содержанию своих положений общепризнанным нормам и принципам международного права, общепризнанным стандартам прав человека, является несомненным достижением в развитии и совершенствовании правовой системы России. По истечении двух десятилетий верховенства, высшей юридической силы и прямого действия этого нормативного акта необходимо отметить, что уже прошло то время, когда в научной юридической литературе с энтузиазмом и восторгом анализировались положения, гарантирующие основные права и свободы человека и гражданина, и даже то время, когда освещались проблемы реализации ее норм, шел поиск причин того, почему нормы Основного закона, устанавливающие основы статуса личности, «не работают». Многие исследователи видели истоки этих причин в правовом нигилизме граждан России, в менталитете россиян, в отсутствии правовой культуры, в неразвитости институтов гражданского общества, в дисфункции судебной системы. Но в последнее время, на наш взгляд, в научной юридической периодике все чаще поднимается проблема несовершенства законодательства, которое сужает возможности реализации основных прав и свобод личности, гарантируемых Конституцией РФ. В.С. Нерсесянц писал, что «свобода возможна лишь там, где люди – не только ее адресаты, но и ее творцы и защитники»1. «Творцами свободы» согласно основам конституционного строя Российской Федерации являются, в первую очередь, субъекты законодательной инициативы и законодательный орган государственной власти Российской Федерации, во-вторых,
«творить» эту свободу может Конституционный Суд РФ, в том случае, если законодатели сузили эти свободы «безмерно». И «мерой» в этом случае для законодателей является формула ч.3 ст.17 Конституции РФ о том, что осуществление прав личности не должно нарушать права и свободы других лиц, и ч.3 ст.55 Конституции РФ, где установлены ценности, во имя защиты которых законодатель вправе ограничивать конституционные права и свободы: основы конституционного строя, нравственность, здоровье, права и законные интересы других лиц, обеспечение обороны страны и безопасности государства. В ч.1 и 2 той же ст.55 установлен запрет законодателю издавать законы, умаляющие права и свободы человека и гражданина. Эти нормы задают те рамки, за пределы которых законодатель не вправе выходить, когда пытается сузить конституционные права. Трудно найти более подходящее описание или более точно отражающее сущность данного рассматриваемого явления определение, чем сформулированное Б.С. Эбзеевым: «ограничения прав – это допускаемые Конституцией и установленные федеральным законом изъятия из конституционного статуса человека и гражданина»2. Эти «изъятия», устанавливаемые федеральным законом, на наш взгляд, составляют основную и актуальную проблему развития правовой системы в целом.
В соответствии с ч.1 ст.27 Конституции РФ каждый, кто законно находится на территории РФ, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. В советский период традиционно свобода передвижения, выбора места пребывания и жительства ограничивалась государством.
Реализация данного права в нынешнее время также вызывает затруднения. Например, гражданином РФ Смирновым С.Ю. в 2003–2006-е г. подавались исковые заявления в суды общей юрисдикции России в защиту своих прав. Он жаловался на действия паспортно-визового отдела управления внутренних дел в том, что вследствие отсутствия регистрации по месту жительства ему было отказано в замене паспорта гражданина СССР на паспорт гражданина РФ; сотрудников компании ОАО «Мобильные ТелеСистемы» в том, что ему отказано в пользовании услугами мобильной связи; ООО «Морион», сдающего имущество в прокат, за отказ в предоставлении услуг. Смирновым С.Ю. также было подано в суд заявление об установлении факта постоянного проживания на территории Российской Федерации. Все исковые заявления были возвращены истцу из-за отсутствия у заявителя регистрации по месту жительства, после чего гражданин был вынужден обратиться в Европейский Суд по правам человека3. В Постановлении ЕСПЧ от 22 декабря 2009 г.. «Сергей Смирнов против Российской Федерации», в п.32 говорится, что российские «суды не только наказали его за несоблюдение им формального требования, но и установили для заявителя существенные ограничения права обращения в суд»4. То есть, практически, судьи ЕСПЧ сочли, что требования ч.2 ст.131 и ст.136 Гражданского процессуального кодекса РФ вторгаются в само существо права обращения в суд, гарантированного ст.46 Конституции РФ. Под местом жительства в российском законодательстве понимается место регистрации по месту жительства. Причем в качестве места жительства человека может выступать исключительно жилое помещение. Регламентация этого права в дореволюционной России, оказывается, предоставляла больший объем свобод. «В дореволюционной России категория «жилище» включала в себя не только жилое помещение, но и другие виды, в том числе земельный участок, мельницу и т.д. Получается, что понятие места жительства в крепостной России было существенно шире, чем в современной демократической России»5.
В новостях Башкирского спутникового телевидения был показан сюжет о молодой женщине с ребенком грудного возраста, которая была выселена из комнаты в общежитии из-за смерти матери, которая имела право пользования данным жилым помещением. По решению суда женщина с новорожденным ребенком была выписана с данного места жительства и стала лицом, не имеющим регистрации по месту жительства. Вследствие этого женщина не могла реализовать право постановки на очередь лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Ее заявление не принимали в органах местного самоуправления, так как у нее не было регистрации по месту жительства. В завершение данного сюжета прозвучал публичный совет юриста «сделать фиктивную регистрацию» для постановки в очередь, как ни парадоксально, в то время, когда в законодательном органе Российской Федерации рассматривали вопросы борьбы с фиктивной регистрацией, то есть, с регистрацией без фактического проживания.
Такое оперативно-розыскное мероприятие, как обследование помещений, ограничивает право граждан на неприкосновенность жилища, закрепленное ст.25 Конституции РФ. Согласно ст.8 Федерального закона от 12 августа 1995 г. «Об оперативно-розыскной деятельности», это мероприятие допустимо на основании судебного решения и при наличии информации.

Однако имеется правовая неопределенность в отношении пределов тактической активности оперативного работника при таком обследовании помещений. Возникает, например, вопрос о допустимости негласного проникновения в квартиру в отсутствие ее хозяина. В законе не прописаны случаи законного проникновения в жилище, совершенного против воли проживающего6. Вышеуказанные примеры подтверждают мнение о том, что «ограничение права есть отклонение от правового равенства, при котором сужается объем статусных прав отдельных субъектов права»7. То есть, речь идет только о сужении прав отдельных лиц, по тем или иным причинам, потерявших некоторые статусные права. Здесь под ограничением прав человека понимается не ограничение свободы как содержания того или иного права, а ограничение условий и пределов реализации этой свободы в соответствующей сфере общественной жизни (т.е. ограничивается не сама свобода как благо, предоставляемое тем или иным правом, а продолжительность, полнота и качество пользования ею)8. Но не все случаи законодательного ограничения конституционных прав попадают под данное определение. Например, ч.1 ст.30 Конституции РФ гарантирует право на объединение. Однако законодатель федеральным законом может затруднить реализацию этого права гражданами, установив требование минимального количества членов политической партии для регистрации партии в 50 000 человек, или же упростить реализацию этого права, установив численность членов всего в 500 человек. Такого рода регулирующее воздействие можно применить в законе о референдуме, в избирательном законодательстве, в законе о собраниях, митингах, шествиях и т.д.
В указанных случаях ограничение права не связано с утерей статусных прав кем-либо. И считать ли такие случаи вторжением в само существо права, то есть ограничением права? Если основываться на нормах ст.55 Конституции РФ, то ограничение права – это регламентируемые нормативными правовыми актами рамки реализации прав человека, обусловленные объективными требованиями самосохранения общества. Кроме того, в юридической литературе исследователями выделяются два уровня ограничений: на правоустановительном и на правоприменительном. «Ограничение прав граждан – это установление законодателем правового статуса граждан путем определения пределов (границ) реализации гражданином своих прав и свобод в целях обеспечения надлежащего баланса интересов гражданина и общества (правоустановительный уровень), а также правомерные изъятия из правомочий, входящих в объем правового статуса граждан, путем издания уполномоченным на то должностным лицом (органом) индивидуального правового акта управления, лишающего гражданина права вообще или частично (во времени и по объему), либо правомерное возложение на гражданина таким актом дополнительных юридических обязанностей (по отношению к уже имеющимся у него обязанностям, установленным нормативно-правовыми актами) или путем непосредственного применения к гражданину мер физического воздействия
(правоприменительный уровень)»9.
Таким образом, при неизменности положений Конституции РФ институт конституционно-правового статуса личности является «живым» и динамичным за счет «изъятий из статуса». Между тем, некоторые ученые в понятие конституционно-правового статуса личности не включают гарантии осуществления прав и свобод, особенности реализации конституционно-правовых норм. Конституционно-правовой статус человека, считают они, состоит только из конституционных прав, свобод и обязанностей. Эти разные подходы, на наш взгляд, связаны с особенностями разрешения проблемы круга источников конституционного права как отрасли права. И.П. Ильинский, В.А. Кикоть считали, что нормы собственно Конституции РФ не образуют отрасли права, а могут быть выделены исключительно по своей высшей юридической силе. По их мнению, другие источники права, которые конкретизируют и «помогают» в реализации норм Конституции, относятся к источникам других отраслей права: административного права, гражданского, уголовного и т.д. Данный подход ведет к отказу от широкой трактовки элементного состава конституционного статуса человека. Под конституционно-правовым статусом личности при таком подходе понимается система норм собственно Конституции РФ, устанавливающая основы правового положения человека в социуме и государстве. Л.Д. Воеводин обосновывает позицию включения в понятие правового статуса личности дополнительных элементов, а именно: гражданство, общую правоспособность, принципы правового статуса личности, гарантии правового положения, прав и обязанностей10. Н.В. Витруком было предложено нечто среднее: понимание правового статуса личности в широком смысле и в узком смысле.
В широком смысле в это понятие входят помимо собственно прав, свобод, обязанностей и законных интересов также и гражданство, правосубъектность, юридические гарантии прав, обязанностей и законных интересов, что, в целом, можно было бы обозначить как правовое положение личности11. Таким образом, нельзя не признать, что в правовых науках неразрешенной проблемой остается проблема гарантий прав человека, под которой исследователи иногда понимают также и реализацию прав. Гарантии прав и свобод - это принятые на себя государством обязательства по созданию условий и средств для реализации охраны и защиты прав и свобод граждан. Гарантии, считается, подразделены на два основных вида: общие и юридические. К первому виду относят социальноэкономические, политические, духовные и организационные. Второй вид гарантий является «правовым выражением общих гарантий», и они «обеспечивают возможность реализации прав»12. Большинство авторов гарантии включает в структуру конституционно-правового статуса личности. «Правовой статус личности – это конституционно-правовой институт, имеющий сложную структуру. В качестве его основных элементов выступают: гражданство, правосубъектность; права, свободы и обязанности; гарантии прав и свобод»13. На наш взгляд, гарантии как более широкое понятие и явление, должны включать в себя и ограничение прав. При рассмотрении юридического конструкта конституционноправового статуса личности исследователи, как правило, редко связывают его с проблемой пределов ограничения конституционных прав. Н.И.Матузов делает акцент на сложности, комплексности и собирательном характере конструкции «правовой статус личности», ибо здесь речь идет «о реальном процессе отражения правовой действительности, который сам по себе отличается
сложностью и противоречивостью».14 А реальная правовая действительность связана с ограничениями основных или конституционных прав человека, составляющих базовые и опорные элементы конституционно-правового статуса личности. Необходимо учитывать также то, что понятие или научная категория находятся в постоянном развитии, как и отражаемый им предмет. Поэтому конституционно-правовой статус личности как явление и как понятие может приобретать «разные объемы» на разных отрезках времени в рамках существующей правовой системы благодаря ограничению конституционных прав федеральным законом на законодательном уровне.
Думается, ограничения, устанавливаемые индивидуальными правовыми актами управления на правоприменительном уровне, так как являются правомерными изъятиями из конституционно-правового статуса личности, напрямую связаны с различными видами юридической ответственности, с административноправовыми и уголовно-правовыми санкциями. Конституционно-правовой статус личности, составляющий в своем «срезе» не только нормы отдельного конституционно-правового института, но и реально сложившиеся правовые отношения, порядок реализации конституционных прав, в первую очередь, динамичен в связи с вторжением законодателей в само существо права, что по сути является ограничением права.
Таким образом, ограничение права – это установленные законом пределы реализации человеком своих прав, выражающиеся в запретах, вторжениях, обязанностях, ответственности, то есть, нормативное сужение круга возможностей субъекта права. Законодательное ограничение конституционного права должно быть соразмерно (пропорционально) тем целям, ради которых оно осуществлено, и не приводить к утрате основного содержания конституционного права, как, например, требование норм ч.2 ст.131 и ст.136 ГПК. – это в отдельных случаях приводит к утрате права на обращение в суд, гарантируемого ст.46 Конституции РФ. В тех случаях, когда законодатель рискует утратой сущностного содержания конституционного права, он рискует своей лигитимностью. Ибо законодателю не резон искусственно «занижать» или «завышать» объем прав и свобод, этот объем связан с реально складывающимися общественными отношениями, уровнем развития правовой культуры общества.
Как показывает практика, законы, которые принимаются без учета интересов граждан и особенностей социальных процессов, не достигнув целей правового регулирования, вынуждены прекращать свою юридическую силу путем их отмены. К сожалению, пока что «догма российского права, являющаяся главным связующим звеном между правовой теорией и практикой, по-прежнему остается легистской (т.е. основанной на отождествлении права и закона как произвольного установления власти) и, следовательно, не содержит в себе критериев отличия права от произвола»15. Без этих критериев трудно представить устойчивую и эффективную защиту конституционных прав граждан Конституционным Судом Российской Федерации.
При изъятиях из конституционноправового статуса, установленных федеральным законом, Конституционный Суд должен быть уверен, что «защита ценностей общего блага ч.3 ст.55 Конституции невозможна без ограничения соответствующего права человека»16. То есть, у суда не должно быть сомнений в том, что защита основ конституционного строя, защита нравственности, защита здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечение обороны страны и безопасности государства требуют непременного ограничения какого-либо конституционного права (например, права на собрания, митинги, демонстрации и шествия).
В условиях господства системоцентристского мировоззрения (а не человекоцентристского) «отсутствие критериев разграничения права и нравственности ведет не к возвышению права до уровня нравственных требований, а к ограничению прав человека для защиты общественной нравственности, выразителем которой, в конечном счете, выступает государство».
В заключение необходимо отметить, что содержание понятия конституционно-правового статуса личности включает в себя механизм реализации конституционных прав, устанавливаемый федеральными законами. Объем и содержание конституционноправового статуса личности находится в прямой зависимости от ограничений прав или вторжения в само существо конституционного права.
Список литературы Конституционно-правовой статус личности в контексте проблемы ограничения прав
- Беломестных Л.Л. Ограничение прав человека. М.: АЭФП, 2003.
- Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности.М.: Норма, 2008.
- EDN: SDQPGL
- Воеводин Л.Д. Конституционные права и обязанности советских граждан. М.: Изд-во Московского университета, 1972.
- Лапаева В.В. Критерии ограничения прав человека и гражданина в Конституции Российской Федерации.Государство и право. 2013. №2.
- EDN: PUZTPZ
- Матузов Н.И. Правовая система и личность. Саратов, 1987.