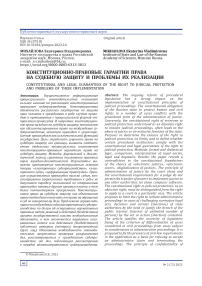Конституционно-правовые гарантии права на судебную защиту и проблемы их реализации
Автор: Михайлова Екатерина Владимировна
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Публично-правовые (государственно-правовые) науки
Статья в выпуске: 2 (72), 2023 года.
Бесплатный доступ
Осуществляемое реформирование процессуального законодательства оказывает сильное влияние на реализацию конституционных принципов судопроизводства. Конституционная обязанность российского государства по защите прав человека и гражданина в ряде случаев приходит в противоречие с процессуальной формой отправления правосудия. И напротив: конституционное право каждого на судебную защиту, понимаемое как абсолютизированное право на возбуждение судопроизводства, зачастую приводит к злоупотреблению правосудием как исключительной функцией государства. Цель: определить сущность права на судебную защиту, его границы, выявить соответствие отдельных процессуальных институтов конституционно-правовым гарантиям права на судебную защиту. Методы: формальной и диалектической логики, сравнения, толкования правовых норм, юридико-догматический. Результаты: выявлено противоречие конституционным основам теории «электронного судопроизводства», «электронного суда», «цифровизации правосудия». Принцип осуществления правосудия только судом, конституционно закрепленные требования к судье не допускают передачу полномочий по отправлению правосудия никаким другим органам власти и тем более компьютерным программам. Конституционное право на судебную защиту как объективное право необходимо отличать от права на обращение в суд по конкретному делу. Предложено ограничить право на возбуждение административного судопроизводства по делам об оспаривании нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов государственной власти необходимостью обосновать, в чем заключается нарушение оспариваемым актом или действием (бездействием) публичного интереса (интереса неограниченного круга лиц). Обоснована необходимость законодательного закрепления критерия разграничения дел, рассматриваемых в гражданском судопроизводстве, от дел, подлежащих рассмотрению в порядке административного судопроизводства.
Право на судебную защиту, конституционные принципы, процессуальная форма защиты, гражданское судопроизводство, административное судопроизводство, судебная примирительная процедура, гласность, конфиденциальность, электронный суд, принцип осуществления правосудия только судом
Короткий адрес: https://sciup.org/142237958
IDR: 142237958 | УДК: 34 | DOI: 10.33184/pravgos-2023.2.6
Текст научной статьи Конституционно-правовые гарантии права на судебную защиту и проблемы их реализации
Конституция РФ в ст. 2 закрепляет важнейшую обязанность российского государства – признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина. В ст. 45 Основного закона также обозначено, что государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется. Право каждого на судебную защиту его прав и свобод еще раз закреплено в ст. 46 Конституции.
Право на судебную защиту – это, таким образом, неотъемлемое конституционное право каждого человека, причем не только гражданина, но и лица без гражданства, иностранца. В этой гарантии наиболее ярко проявляется сущность российского государства как правового, где право и свобода главенствуют, являются высшей ценностью; государство призвано способствовать их воплощению, а в случае нарушения – принудительному восстановлению.
Можно согласиться с мнением К.В. Арановского о том, что «отношения между правом и государством таковы, что государство должно праву подчиниться. Причем государство оправдывает себя настолько, насколько остается в служебном положении, а право обращается к ресурсам государства постольку, поскольку они нужны для его действительного господства, верховенства»1.
Право на судебную защиту и его пределы
Право на судебную защиту имеет абсолютный характер: никто не может быть его лишен ни по каким соображениям. Отраслевое процессуальное законодательство, последовательно раскрывая конституционно-правовые гарантии реализации этого права, в первых статьях закрепляет, что отказ от права на судебную защиту недействителен (ч. 2 ст. 3 ГПК РФ, ч. 3 ст. 4 АПК РФ).
Формулировка ч. 2 ст. 4 КАС РФ несколько иная и звучит так: «Принуждение к отказу от права на обращение в суд является недо- пустимым». Она создает впечатление, что добровольно отказаться от права на обращение в суд возможно, лишь принуждать к этому – незаконно. Однако даже в том случае, если лицо поставило свою подпись в документе о том, что оно обязуется не обращаться в суд, это условие ничтожно, особенно в сфере публично-правовых отношений. Такое «обязательство» будет противоречить Конституции РФ. Поэтому представляется необходимым привести положение ч. 2 ст. 4 КАС РФ в соответствие с Конституцией РФ и по аналогии с ГПК РФ и АПК РФ закрепить такую формулировку: «Отказ от права на обращение в суд с административным исковым заявлением является недействительным».
При этом нужно различать два понятия: «право на судебную защиту» и «право на обращение в суд». Анализ действующего процессуального законодательства приводит к мысли, что законодатель не всегда их разграничивает.
Право на судебную защиту – это право объективное, обращенное ко всем и к каждому. Это, в широком смысле, абстрактное право на обращение в суд. М.А. Гурвич, заложивший основы традиционного учения об иске, понимал его как «право на иск», то есть «всеобщий доступ к правосудию, который открыт всем» [1, с. 63]. В этом смысле лишить кого-либо этого права, действительно, невозможно, как невозможно, например, лишить кого-либо права стать родителем.
«Праву на иск», или на судебную защиту, противостоит «право на предъявление иска». Обладая объективной возможностью в любой момент обратиться в суд, не в каждом случае лицо может это сделать. Необходимы установленные законодательством предпосылки, а также соблюдение ряда условий. Так, требуется указать, в чем состоит нарушение права, свободы или законного интереса, легитимировать предполагаемого нарушителя, обратиться в суд по подсудности, соблюсти досудебный (претензионный) порядок урегулирования, если он требуется по закону или по условиям договора. В противном случае в принятии искового заявления будет либо отказано, либо оно будет возвращено. Это совершенно нормально. Как писал Е.В. Васьковский, «государственная власть не может оказывать своей помощи всякому, кто обращается к ней, без разбора» [2, с. 3].
Право на судебную защиту также вовсе не означает право на получение благоприятного судебного решения. Суд, проверив все обстоя- тельства дела, может вынести решение об отказе в удовлетворении заявленных требований. То есть право на судебную защиту будет реализовано, но в конкретном случае в удовлетворении притязания – отказано. Аналогичным образом никто не может быть лишен права стать родителем, но отдельные лица при определенных обстоятельствах могут быть лишены родительских прав.
Таким образом, следует правильно понимать конституционно закрепленное право на судебную защиту. Это не право обратиться в суд, когда взбредет в голову, не право на получение благоприятного судебного решения, не механизм сведения счетов. Это исключительная, объективная возможность при наступлении ряда установленных процессуальным законодательством обстоятельств и соблюдении необходимых условий в случае невозможности свободно реализовать закрепленные в правовых нормах права, свободы и законные интересы стать стороной в деле.
Цифровизация правосудия в контексте его конституционного статуса
Право на судебную защиту может быть реализовано не иначе как в установленном процессуальным законодательством порядке. При этом, как и любой нормативно-правовой акт, отраслевые процессуальные кодексы должны находиться в полном соответствии с положениями Конституции РФ. В этой связи крайне важно отметить следующее.
В последнее время научное сообщество увлечено идеями «цифровизации правосудия» и даже «электронного суда». Более того, говорят и об «электронном судье» [3, с. 54]. В специальной литературе можно встретить массу публикаций на эту тему, виднейшие процессуалисты выступают с докладами на научных мероприятиях. Например, И.В. Воронцова считает, что так называемый «электронный суд» – это наше недалекое будущее, и представляет он собой возможность получить решение по делу путем заполнения «несложных форм» [4, с. 167]. Впрочем, некоторые авторы высказывают разумные опасения. Так, пишут о том, что судьи в условиях «цифровизации правосудия» утратят свои профессиональные навыки, следствием чего будет неминуемое снижение авторитета судьи [5, с. 35].
Но обратимся к тексту Конституции РФ.
В ч. 1 ст. 118 прямо закреплено, что правосудие в Российской Федерации осуществ- ляется только судом. Это конституционный, общеправовой принцип. Он означает, что рассмотрение и разрешение дел в процессе отправления правосудия может осуществляться только специальным органом государственной власти – судом в лице назначенного в установленном порядке судьи (или нескольких судей). Ни один другой орган власти, должностное лицо, гражданин, организация – никто не вправе осуществлять правосудие. Судьями могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 25 лет, имеющие высшее юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет (ст. 119).
Данные конституционные нормы полностью закрывают любую дискуссию об «электронном суде» или «электронном судье». Ни одно судебное решение не будет являться законным, если оно вынесено не судом в лице назначенных в установленном порядке судей.
Функцию по отправлению правосудия действующая Конституция не позволяет переложить ни на одно должностное лицо, ни на один орган власти, помимо суда, и уж тем более не позволяет «поручить» отправление правосудия компьютерной программе.
Представляется, что все закономерные процессы развития цифровых, электронных технологий могут влиять на судопроизводство исключительно в одном аспекте – в аспекте использования компьютерных программ для формирования архивов судебных дел, для информационного сопровождения деятельности судьи (если раньше на столе у судьи лежал кодекс в виде книги, то теперь он может быть представлен в виде компьютерного файла), а также для целей так называемого «электронного документооборота», и то он должен носить дополнительный характер. Правоприменители должны сохранить возможность личного участия в судебных заседаниях, и лишь когда это объективно затруднительно – участвовать в них по видео-конференцсвязи. Они должны иметь право по-прежнему подавать процессуальные документы в бумажном виде, и лишь при желании и наличии технической возможности (которая имеется далеко не у всех жителей нашей страны) – посредством заполнения соответствующих форм на сайте суда. Иными словами, речь может идти только об электронном делопроизводстве в судах. Никакие технологии не могут и не должны посягать на конституционный принцип осуществления правосудия только судом, изменять установленную федеральным законом процессуальную форму судебной защиты. В самом деле, российский гражданский процесс в своей основе незыблем с реформы 1864 г.; несмотря на появление телефонной связи, никто не стал называть его «телефонным правосудием». Несомненно, что только судья, обладая высокими профессиональными знаниями, безупречной репутацией и жизненным опытом, может верно оценить обстоятельства конкретного дела и представленные доказательства, вынести не только правильное, но и справедливое решение по делу. Не стоит забывать, что слово «правосудие» означает «правый, то есть справедливый, суд».
Дифференциация судопроизводства и проблемы подведомственности гражданских дел
Требуется остановиться еще на одном аспекте реализации конституционного права на судебную защиту. В соответствии со ст. 118 Конституции РФ правосудие в нашем государстве осуществляется посредством гражданского, уголовного, административного, арбитражного и конституционного судопроизводства. Такая дифференциация процессуальных форм защиты неизбежно предполагает наличие развитого института подведомственности.
Как известно, судебное решение является законным только в том случае, если оно принято в точном соответствии с нормами процессуального права. Это в своей правовой позиции подчеркнул Пленум Верховного Суда РФ2. Поэтому наличие самостоятельного процессуального кодекса, предусматривающего порядок рассмотрения и разрешения отдельных категорий дел, является основанием для отмены даже правильного по существу решения, вынесенного судом по иным правилам, в рамках применения иного процессуального кодекса. Следовательно, необходим критерий или правило разграничения дел, рассматриваемых по правилам гражданского и арбитражного судопроизводства, и дел, подлежащих рассмотрению в рамках административного судопроизводства по правилам КАС РФ. На се- годняшний день такой законодательно закрепленный критерий отсутствует.
Между тем Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, что дела, возникающие в сфере публично-правовых отношений и подлежащие рассмотрению по правилам КАС РФ, характеризуются отсутствием равенства субъектов и автономии их воли. Пленум указал, что в публично-правовой сфере одна сторона реализует по отношению к другой властные полномочия3.
Однако здесь кроется большая проблема. Дело в том, что нормами гражданского законодательства регулируется целый ряд отношений, отвечающих сформулированным Пленумом признакам. Например, все отношения в сфере пенсионного законодательства, законодательства, предусматривающего иные меры социальной поддержки, дела о лишении и ограничении родительских прав, изъятии земельных участков для государственных и муниципальных нужд и др. характеризуются неравноправным положением участвующих в них лиц и административной «вертикалью». Тем не менее рассматриваются эти дела не в административном, а в гражданском судопроизводстве.
Нужно особо подчеркнуть, что процессуальная форма защиты права очень важна для сторон правового конфликта. Если сравнивать правила гражданского и административного судопроизводства, то очевидно, что последнее максимально нацелено на защиту слабой стороны – гражданина – в споре с органом публичной власти.
В административном судопроизводстве суд процессуально активен и может, в отличие от гражданского процесса, по собственной инициативе истребовать доказательства, выходить за пределы доводов сторон и даже – в необходимых случаях, в интересах законности – за пределы заявленных требований. Бремя доказывания в административном судопроизводстве также «смещено» в сторону органа публичной власти, который обязан доказать законность и обоснованность своих действий (бездействия), актов, решений.
Таким образом, необходим четкий законодательно закрепленный критерий отнесения дел к административному судопроизводст- ву. Если принять признаки публично-правовых дел, предложенные Пленумом Верховного Суда РФ, то внушительное количество дел, в настоящее время рассматриваемых судами общей юрисдикции в гражданском судопроизводстве, должно быть «перенесено» в область административного судебного процесса.
Говоря о подведомственности, надо отметить, что в настоящее время решение вопроса о том, какое судопроизводство по конкретному делу – гражданское или административное – следует возбуждать, практически отнесено на усмотрение суда. Так, в соответствии с ч. 5 ст. 16.1 КАС РФ суд, установив в ходе подготовки административного дела к судебному разбирательству или судебного разбирательства по административному делу, что оно подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства, выносит определение о переходе к рассмотрению дела по правилам гражданского судопроизводства.
Между тем заявитель может быть с этим не согласен. Как было показано, рассмотрение дела по правилам КАС РФ для него процессуально «выгоднее». Поэтому было бы правильнее закрепить, что суд отказывает в принятии административного искового заявления и прекращает производство по делу в случае, если заявленные требования должны быть рассмотрены по правилам гражданского судопроизводства. Заявитель в этом случае вправе обжаловать соответствующее определение суда, что в значительно более высокой степени будет служить гарантией реализации его конституционного права на судебную защиту.
Проблема соотношения принципа гласности судопроизводства и конфиденциальности судебной примирительной процедуры
Нужно отметить еще один момент. Конституционное закрепление получил принцип гласности судопроизводства (ст. 123 Конституции РФ). В соответствии с ним слушания всех дел в судах осуществляются в открытых судебных заседаниях, за исключением дел, в отношении которых закон прямо предусматривает проведение закрытых судебных заседаний, а также случаев, когда суд удовлетворил ходатайство лица, участвующего в деле, о проведении закрытого судебного заседания в связи с необходимостью исследовать факты и доказательства, связанные с тайной личной жизни, коммерческой тайной (ст. 10 ГПК РФ).
Принцип гласности закреплен в Конститу- ции потому, что имеет основополагающее значение: обеспечивает «прозрачность» правосудия, право общественности на осуществление контроля за независимостью судебной власти. При этом в 2019 г. в действующее гражданское, арбитражное и административное процессуальное законодательство были внесены серьезные дополнения. Речь идет о «судебной примирительной процедуре», имплементированной в цивилистический процесс и административное судопроизводство.
Прежде всего, встает вопрос о том, насколько примирительная функция отвечает конституционно-правовому смыслу правосудия. Конечно, и до 2019 г. суд в порядке подготовки гражданских дел к судебному разбирательству должен был принять меры к примирению сторон. Однако они заключались в том, что суд разъяснял участникам дела их право заключить мировое соглашение и, в случае изъявления ими такого намерения, откладывал судебное разбирательство. Примирившись вне стен суда, стороны могли представить суду свое соглашение для утверждения в качестве мирового.
Самостоятельно суд примирительной процедуры не проводил. Теперь же функцию примирения в судах осуществляют специальные субъекты – судебные примирители, в качестве которых выступают судьи в отставке, а список судебных примирителей утверждается Верховным Судом РФ.
Несмотря на то что судья, рассматривающий дело, по-прежнему сам примирительную процедуру не проводит, она все же является частью процессуальной формы, элементом судопроизводства, поскольку регулируется нормами процессуального законодательства. Складывается ситуация, при которой суд, как орган государственной власти, осуществляет дополнительную функцию по оказанию посреднических примирительных услуг. При этом судебная примирительная процедура осуществляется в условиях конфиденциальности (ст. 6 Регламента проведения судебного примирения4).
Представляется, что конфиденциальность судебной примирительной процедуры, возведенная в ранг судопроизводственно- го принципа, противоречит общеправовому конституционному принципу гласности судопроизводства в Российской Федерации. Разумеется, проведение судебного примирения в открытом заседании не возымеет того эффекта, на достижение которого оно направлено. Но здесь необходимо задуматься о том, насколько органично примирительная процедура вписывается в правосудие. Было бы целесообразнее отдать примирительные процедуры на откуп, например, нотариату. Тогда судьи, не испытывая неловкости из-за того, что проверяют законность соглашений, достигнутых под руководством их коллег (судей в отставке), могли бы проверять нотариально удостоверенные соглашения о примирении и, в случае их соответствия всем требованиям законодательства, утверждать как мировые соглашения. Помимо совершенно очевидной разгрузки судебной системы, которой позволит достичь внедрение «нотариального примирения», такой порядок будет оперативным и, учитывая высокие профессиональные качества нотариусов, весьма надежным. Суд же при этом останется судом, разрешающим спор о праве, а не урегулирующим его.
Проблема оснований возбуждения административного судопроизводства
Наконец, важно сказать следующее. Конституционное право на судебную защиту не должно пониматься как «право на сутяжничество». Суд – это орган государственной власти, обладающий исключительными полномочиями, и право на возбуждение судопроизводства должно иметь известные границы и условия. Например, право граждан оспаривать нормативные и ненормативные правовые акты, имеющие общеобязательный характер, решения, действия (бездействие) органов государственной власти и должностных лиц сегодня имеет абсолютный характер. Однако поскольку публичное право и интерес принадлежат не только административному истцу, но и всему обществу, неограниченному кругу лиц, право возбуждать административное судопроизводство по указанным делам должно предполагать обоснование заявителем наличия нарушения оспариваемым актом или действием (бездействием) не только его субъективного права, но и права публичного – нарушение общественного интереса. Именно об этом писал в свое время Н.М. Коркунов: «Нарушение установлен- ного правом приспособления объекта к совместному пользованию затрагивает интересы всех участвующих в пользовании и потому требует мер охраны права, независимых от чьего-либо индивидуального усмотрения» [6, с. 228].
Помимо этого, в связи со сказанным, требуется переосмыслить действие таких проявлений диспозитивности в сфере разрешения дел публично-правовой природы, как право на заключение мирового соглашения. Например, в советское время по делам, возникающим из административных правоотношений, мировые соглашения не допускались5. Заключение мировых соглашений, скажем, в налоговых делах в арбитражном судопроизводстве несет серьезные коррупционные ри- ски и требует если не упразднения, то введения правила об обязательном участии в деле прокурора.
Заключение
Резюмируя, можно отметить следующее. Конституция РФ, помимо своей высшей юридической силы, в которой никто, как хочется надеяться, не сомневается, является актом прямого действия и может и должна применяться судами при разрешении вопросов, не урегулированных специальными нормами процессуального законодательства. Любые изменения и дополнения, вносимые законодателем в процессуальные законы, должны строго отвечать конституционно закрепленным принципам, основным началам судопроизводства.
Список литературы Конституционно-правовые гарантии права на судебную защиту и проблемы их реализации
- Гурвич М.А. Избранные труды / М.А. Гурвич. - Краснодар: Советская Кубань, 2006. - Т. 1. - 672 с.
- Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса / Е.В. Васьковский.; под ред. В.А. Томсинова. - Москва: Зерцало, 2003. - 464 с.
- Мезенцев И.В. О чем думает электронный судья? / И.В. Мезенцев // Криминология: вчера, сегодня, завтра. - 2019. - № 1 (52). - С. 54-56.
- Воронцова И.В. О соотношении понятий "электронный суд" и "электронное правосудие" / И.В. Воронцова // Правовая политика и правовая жизнь. - 2019. - № 3. - С. 167-168.
- Крайнова Н.А. "Электронные весы правосудия": цифровизация процессов или оцифровка задач? / Н.А. Крайнова // Криминология: вчера, сегодня, завтра. - 2019. - № 1 (52). - С. 35-38.
- Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права / Н.М. Коркунов. - Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2003. - 430 с.