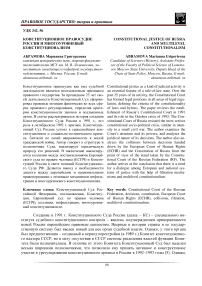Конституционное правосудие России и многоуровневый конституционализм
Автор: Абрамова Марианна Григорьевна
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Статья в выпуске: 2 (48), 2017 года.
Бесплатный доступ
Конституционное правосудие как вид судебной деятельности является неотъемлемым признаком правового государства. За прошедшие 25 лет своей деятельности Конституционный Суд сформировал правовые позиции фактически во всех сферах правового регулирования, определив критерии конституционности законов и подзаконных актов. В статье рассматривается история создания Конституционного Суда России в 1991 г., его роль в октябрьском 1993 г. кризисе. Конституционный Суд России устоял в серьезнейшем конституционном и социально-политическом кризисе, близком по своей напряженности к малой гражданской войне. Автор говорит о структуре и полномочиях Суда, анализирует юридическую природу его решений. В заключение анализируются коллизии между постановлениями Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и Конституцией России в свете позиций Конституционного Суда РФ. Делается вывод о необходимости диалога между европейским и национальными правопорядками с помощью механизмов инфильтрации и многоуровневого конституционализма.
Конституционный суд российской федерации, конституция, европейский суд по правам человека (еспч), коллизии, многоуровневый конституционализм
Короткий адрес: https://sciup.org/142233879
IDR: 142233879 | УДК: 342.
Текст научной статьи Конституционное правосудие России и многоуровневый конституционализм
Создание в 1991 г. Конституционного Суда России (далее – КС) – специального института судебного конституционного контроля – явилось подтверждением приверженности новой России европейским правовым ценностям. Впервые в истории страны в ее государственную систему был введен новый для нее орган судебной власти. Однако, у этого органа был предшественник – созданный в период перестройки (в 1989 г.) Комитет конституционного надзора СССР, но в силу отсутствия в СССР системы разделения властей функции Комитета были незначительны. В отличие от этого Комитета Конституционный Суд был наделен весьма широкими полномочиями, что позволило ему принять активное и конструктивное участие в урегулировании конституционного кризиса в России в 1992–1993 годы [5]. Однако,
чтобы занять такое место в политической системе России, Конституционному Суду пришлось пройти трудный и долгий путь [8]. Трагические страницы новейшей истории России связаны с началом 90-х гг., а именно – правлением первого Президента России Б. Ельцина. Своим указом от 21 сентября 1993 г. «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» он упразднял старый парламент – Верховный Совет, назначал выборы президента и нового парламента – Думы. При этом Б. Ельцин «предложил» Конституционному Суду РФ не созывать заседания, чтобы тот не давал официальную оценку этим актам.
И вот тут проявилась героическая позиция председателя Конституционного Суда В. Зорькина и других судей: Конституционный Суд не согласился с этой "рекомендацией". Он сформулировал заключение о том, что указ Б. Ельцина и "Обращение Президента к гражданам России" от 21 сентября 1993 г. не соответствуют Конституции РФ и служат основанием для отрешения Президента от должности. 22 сентября 1993 г. Б. Ельцин издал новый Указ № 1400 о разгоне парламента, что стало основой для принятия Конституционным Судом знаменитого решения для немедленного прекращения президентских полномочий Б. Ельцина. Ход событий в конце сентября – начале октября 1993 г. известен: начался вооруженный конфликт депутатов Верховного Совета и президента Б. Ельцина [14, 28]. Народные депутаты РФ в своем большинстве отказались подчиниться указу Б. Ельцина, Президиум Верховного Совета РФ постановил считать его полномочия прекращенными с момента подписания названного Указа.
7 октября 1993 г. он издал новый Указ, по которому было установлено, что правовое регулирование по вопросам бюджетно-финансового характера, земельной реформы, собственности, государственной службы и социальной занятости населения осуществляется Президентом РФ. Резонно спросить: для чего стоило такие сложные вопросы, далеко не всегда оперативные, непременно регулировать указами, а не законами? Парламент был практически лишен законодательной функции, страна катилась к чрезвычайному законодательству, Б. Ельцин постепенно концентрировал в своих руках всю полноту власти в государстве, прекратил деятельность многих органов в центре и на местах. Развивался открытый конфликт Б. Ельцина с КС. В своем Указе от 7 октября Б. Ельцин написал, что КС "из органа конституционного правосудия превратился в орудие политической борьбы, представляющее исключительную опасность для государства". Однако КС по закону того времени мог давать оценку актам органов и действиям высших должностных лиц государства. Тем не менее, над КС нависла угроза ликвидации. В указе Б. Ельцина содержалась идея упразднения Конституционного Суда с заменой его коллегией (палатой) Верховного Суда с аналогичными функциями.
Однако эта идея не нашла поддержки в окружении Б. Ельцина, и Конституционный Суд был сохранен. Правда, его полномочия были существенно урезаны. Например, уже не предусматривалось право КС давать оценку конституционности актов и действий высших должностных лиц. Также у суда отняли право оценивать конституционность политических партий и иных общественных объединений. Проект закона о КС предполагал оставить Суду право оценивать конституционность правоприменительной практики. Однако далее возобладал другой подход, отраженный в окончательном тексте закона: КС оценивает конституционность закона, примененного или подлежащего применению в конкретном деле, по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов. Конституционный Суд России устоял в серьезнейшем – не просто конституционном, а социальнополитическом – кризисе, близком по своей напряженности к малой гражданской войне.
Конституционное правосудие как вид судебной деятельности является неотъемлемым признаком правового государства. Деятельность и структура Конституционного Суда России регламентируются Конституцией РФ [15, ст. 125] и Федеральным Конституционным Законом [27]. Этот суд имеет следующие полномочия: главное – это конституционный контроль – разрешение дел о соответствии нормативных актов и договоров Конституции РФ; разрешение споров о компетенции между федеральными органами государственной власти, между федеральными органами и органами государственной власти субъектов РФ; проверка конституционности закона, примененного или подлежащего применению в конкретном деле – по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов; толкование Конституции России; дача заключения по запросу Совета Федерации о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления; выступление с законодательной инициативой по вопросам своего ведения.
Наличие у Конституционного Суда права толкования Конституции и федеральных законов способствует повышению уровня эффективности его деятельности по укреплению правовой государственности и совершенствованию единого правового пространства. Акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают силу, а не соответствующие Конституции Российской Федерации международные договоры не подлежат введению в действие и применению. Таким образом, особая роль Конституционного Суда как органа конституционного контроля в России состоит в том, что он выступает арбитром в спорах о праве, тем самым как бы очищая правовое поле от неправовых законов и заставляя законодателя более ответственно подходить к принятию новых законов.
До 2011 г. Суд состоял из двух палат, что было способом обеспечения максимально возможного в тогдашних условиях ускорения процесса прохождения судебных дел. Это соответствовало традиционному пониманию принципа непрерывности, согласно которому Суд не мог начинать рассмотрение нового дела, не закончив предыдущее. Однако с 2011 г. в российском конституционном судопроизводстве закреплен новый принцип, устраняющий это ограничение. Была введена давно и широко распространенная во многих европейских странах процедура разрешения конституционно-судебных дел без проведения слушаний, поэтому необходимость в разделении Суда на палаты отпала [27]. В настоящее время основное направление работы Конституционного Суда РФ связано с рассмотрением жалоб на нарушение конституционных прав и свобод граждан. Ежегодно в Суд поступает от 14000 до 19000 жалоб граждан, что свидетельствует о доверии людей к Конституционному Суду.
Позиции КС России по разным вопросам находят свое выражение в его решениях. Ежегодно готовится обобщенная информация об этих решениях. Так в 2009 г. информация касалась исполнения решений КС, в 2012 г. – совершенствования деятельности в сфере защиты прав и свобод граждан, в 2014 г. – развития судебной системы. Также выходят регулярные (квартальные или полугодовые) обзоры практики Суда. Эти документы размещаются на официальном интернет-портале Конституционного Суда и выступают в качестве ориентиров для работы российских судов [22].
Решения Конституционного Суда оформляются в виде постановлений, определений и заключений. Постановлениями называются решения по вопросам конституционности нормативного правового акта или еще не вступившего в силу международного договора, по спорам о компетенции и при толковании Конституции РФ 1 , а заключениями – по вопросам соблюдения порядка выдвижения обвинения Президенту РФ в совершении тяжкого преступления 2 . Также принимаются определения - ими чаще всего являются мотивированные решения об отказе в приеме жалоб граждан 3 .
Подавляющее большинство принимаемых Судом решений инициировано конституционными жалобами граждан (их объединений), касающимися практически всего спектра политических, экономических, трудовых, социальных и иных отношений. С 1 января 1995 г. по 1 сентября 2013 г. в Конституционный Суд поступило 270 664 жалобы; по ним принято 368 постановлений и 15 386 определений.
В решениях КС затрагивается широкий спектр вопросов, связанных с конституционным статусом личности, свободой экономической деятельности, суверенным единством российской государственности, организацией публичной власти, федеративным устройством, местным са-

моуправлением, юридической ответственностью, различными видами судопроизводства. Не будет преувеличением утверждать, что комплексное восприятие российского законодательства невозможно без учета сформулированных Конституционным Судом правовых позиций. Такое положение является естественным для современной правовой демократии и продиктовано признанием человека, его прав и свобод высшей конституционной ценностью.
Конституционный Суд не обходит стороной и принципы, имеющие конституционное значение для отдельных отраслей права, способствуя тем самым их своеобразной «конституционализации». В частности, в решениях КС РФ можно обнаружить прямые указания на принципы гражданского законодательства (постановление от 23 декабря 2003 г. № 20-П), конституционные принципы регулирования экономических отношений (постановление от 22 июня 2009 г. № 10-П), основные принципы правового регулирования отношений в сфере окружающей среды и экологической безопасности (постановление от 14 мая 2009 г. № 8-П), принцип надлежащей защиты прав и законных интересов работника как экономически более слабой стороны в трудовом правоотношении (постановление от 15 марта 2005 г. № 3-П). При этом КС не ограничивается простым упоминанием об этих принципах в своих решениях, а обосновывает свои требования к судам. Например, КС неоднократно обращал внимание на то, что реализация принципа равенства всех перед законом и судом невозможна без соблюдения внутренне присущих ему критериев разумности, соразмерности (пропорциональности) и необходимости ограничения прав и свобод в демократическом правовом государстве; публичные интересы [15] могут оправдывать правовые ограничения прав и свобод, только если такие ограничения адекватны социально необходимому результату; цели только рациональной организации деятельности органов власти не могут служить основанием для ограничения прав и свобод; любая дифференциация, приводящая к различиям в правах и обязанностях субъектов правоотношений, допустима, лишь, если она объективно оправдана, обоснована и преследует конституционно значимые цели, а используемые для достижения этих целей правовые средства соразмерны им (постановления КС РФ от 30 октября 2003 г. № 15-П, от 16 июня 2006 г. № 7-П, от 22 июня 2010 г. № 14-П, от 10 октября 2013 г. № 20-П и др.).
Вместе с тем, КС проявляет себя не только как «негативный законодатель», решения которого сводятся к дисквалификации законов или иных нормативных актов [6, с. 26]. Напротив, в последнее время он все чаще, особенно в тех случаях, когда отступление от норм Конституции обусловлено правоприменительной интерпретацией, воздерживается от вердикта о неконституционности нормы. Действуя подобным образом, КС фактически признает закон условно соответствующим Конституции и обязывает всех следовать определенному варианту его истолкования, любое отступление от которого будет означать нарушение Конституции. Использование таких возможностей позволяет Конституционному Суду не порождать законодательных пробелов и не вторгаться (пусть даже в режиме временного правового регулирования) в законотворческие полномочия парламента.
По мнению Председателя Суда В. Зорькина, в практике Конституционного Суда сложилась тенденция избегать признания оспоренной нормы неконституционной, если имеется возможность выявить ее конституционно-правовой смысл и ее должное содержание, исключающее любое иное ее истолкование в правоприменительной практике [9, с. 183].
В 2015 г. Конституционным Судом принято 34 постановления, а также 3111 определений [22]. Из 34 постановлений – 17 постановлений предполагали изменение федеральных законов и одно постановление предполагало изменение закона субъекта РФ.
Что касается постановлений, то нормативные положения содержатся как в резолютивных, так и в мотивировочных их частях. В резолютивной части формулируются нормы, которыми либо подтверждается, либо, наоборот, отрицается конституционность оспариваемых норм, либо формулируются нормативные положения, призванные разъяснить смысл опреде- ленных конституционных норм. При этом Конституционный Суд подчас вынужден, прекращая действие антиконституционной нормы, формулировать новую с временным действием.
Правовые позиции в мотивировочной части решений Суда не всегда формулируются как нормы, они довольно часто имеют вид доктринальных или иных рассуждений.
Итоговые решения Конституционного Суда часто связаны с толкованием Конституции РФ. Это толкование может быть специальным, если дается по запросам Президента, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства, органов законодательной власти субъектов, или казуальным (инцидентным) – в остальных делах, разрешаемых Судом. В 2015 г. Конституционный Суд дал толкование двум статьям Конституции РФ.
Юридическая сила итоговых решений Конституционного Суда превышает юридическую силу любого закона, а, следовательно, практически равна юридической силе самой Конституции. Считать ли принимаемые Судом постановления источниками права остается дискуссионным вопросом в российской юриспруденции. Часть ученых-юристов относят решения Конституционного Суда к источникам права, другие – нет. С разных позиций обосновывают свое видение судебных решений как источников права такие известные российские юристы, как С.С. Алексеев, М.Н. Марченко, Б.А. Страшун, Т.В. Соловьева, М.В. Баглай [2, 18, 25, 24, 3]. Вместе с тем, академик В.С. Нерсесянц, напротив, считал невозможным признать судебное правотворчество [19].
Сейчас в российской юриспруденции все более распространяется точка зрения, что конституционно-судебное правотворчество – это особая многообразная форма современного правотворчества, осуществляемая высшими органами судебной власти в целях создания оптимальных условий для осуществления правосудия [17, с. 8].
За прошедшие 25 лет своей деятельности Конституционный Суд сформировал правовые позиции фактически во всех сферах правового регулирования, определив критерии конституционности законов и подзаконных актов. При этом речь идет как о текущем регулировании, так и о параметрах функционирования государства, обеспечивающих реализацию принципов демократии, разделения властей и государственного суверенитета. За эти годы из правовой системы России исчезли грубые и явные нарушения Конституции. Они теперь проявляются только на уровне интерпретации и системной связи норм, так как буквальной не-конституционности в российском законодательстве становится все меньше.
Сравнительная таблица 2010–2015 гг. Признание нормативных положений соответствующими (не соответствующими) Конституции РФ в постановлениях Конституционного Суда (2010–2015) [12].
|
Год |
Общее кол-во итоговых решений |
Резолюция о признании норм соответствующими Конституции РФ |
Резолюция о признании норм соответствующими Конституции РФ в выявленном конституционно-правовом смысле |
Резолюция о признании норм не соответствующими Конституции РФ |
Предписание о необходимости осуществления правового регулирования |
|
2010 |
22 |
1 |
16 |
7 |
7 |
|
2011 |
30 |
1 |
17 |
15 |
12 |
|
2012 |
34 |
1 |
22 |
18 |
18 |
|
2013 |
30 |
2 |
13 |
26 |
18 |
|
2014 |
33 |
1 |
20 |
20 |
16 |
|
2015 |
34 |
1 |
17 |
19 |
14 |
В первые десятилетия действия Конституции наибольшую опасность для России представляли социально-политический раскол и межнациональные конфликты, чреватые распадом государства. Все другие угрозы: рост бедности, слияние власти и бизнеса, коррупцию, – можно было пережить и преодолеть, но распад государства грозил исчезновением страны. Государство должно было не просто сохраниться, оно должно было быть способным эффективно защищать права своих граждан. Именно из этих соображений исходил Конституционный Суд в 90-е гг., когда искал правовой компромисс и принимал судьбоносные для страны решения и по так называемому делу КПСС, и при восстановлении конституционной законности на территории Чеченской Республики, и объявляя мораторий на смертную казнь.
Однако сейчас, начиная с 2008 г., в условиях финансово-экономического кризиса, Суд последовательно отстаивает социальные права граждан, побуждая государство к реформированию социального законодательства в этом направлении, что способствует чрезвычайно важной для страны социально-политической стабильности. За период с 2012 по 2015 гг. поступило 45,7 тыс. обращений, из которых защиты конституционных прав и свобод граждан касались свыше 12,1 тыс. (в том числе охраны трудовых прав – около 1,1 тыс., охраны жилищных прав – свыше 2,3 тыс., социальной защиты – около 3,8 тыс.); конституционного права (организации публичной власти) – более 1,2 тыс.; гражданского права и процесса – свыше 8,8 тыс.; уголовного права и процесса – более 18,1 тыс. [10]. Содержание этих обращений убеждает в стремлении граждан России к правовому равенству: равенству в праве на жизнь и жилище, равенству перед законом и судом, равенству в доступе для себя и своих детей к образованию, охране здоровья, культурным ценностям. Когда это стремление наталкивается на труднопреодолимые препятствия в виде тех или иных социальных, политических, экономических институтов, происходит деформация принципа верховенства права, возникает разрыв между законом и правом. С учетом такого выраженного акцента в обращениях граждан на проблемы социальной справедливости представляется очень опасным глубокое имущественное расслоение граждан, сложившееся по итогам проведенной в 90-е годы ХХ в. приватизации государственной собственности.
Приведем два конкретных примера из современной работы Конституционного Суда. Первый пример – это Постановление КС от 30 октября 2014 г. № 26. Оно касается запроса, который сделал Парламент Республики Чечня в КС по поводу конституционности внесения изменений в Закон о государственной службе. Эти изменения были внесены в 2013 г. и касались нового требования к претендентам на должность госслужащего – он должен был отслужить в армии перед поступлением на госслужбу. Между тем, до 2014 г. молодые люди из Республики Чечня не призывались в армию, в связи с восстановлением этой республики после военных действий в 90-е гг. Таким образом, получалось, что, не пройдя воинскую службу, они не могут претендовать и на государственные должности, в связи с чем и была подана жалоба в КС. КС постановил отменить требование о службе в армии, ибо оно нарушило принципы справедливости, равенства и соразмерности, а также право на выбор рода деятельности и профессии путем поступления на государственную службу.
Другое Постановление КС от 22 апреля 2014 г. N 13 касалось установления штрафа в повышенном размере за правонарушения в области дорожного движения, если они совершены в двух субъектах России – городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге. Суд признал эти положения не противоречащими Конституции, поскольку установленное ими регулирование основано на объективных критериях и учитывает специфику сложной и более общественно опасной дорожно-транспортной обстановки в этих крупнейших городах России.
Деятельность Конституционного Суда РФ свидетельствует о правильности стратегического выбора его в качестве высшего арбитра в конституционно-правовых спорах, официального интерпретатора и «стража» российской Конституции [21].
Главной проблемой, с которой столкнулся Конституционный Суд России в своей работе, является необходимость одновременного решения двух не всегда легко сочетаемых задач: гармонизации российской правовой системы с общеевропейским правовым пространством, с одной стороны, и защиты собственной конституционной идентичности – с другой.
Эта проблема имеет содержательные и процедурные аспекты, так как Россия занимает первое место среди государств – членов Совета Европы по количеству жалоб в ЕСПЧ в абсолютном выражении.
Данная проблема обострилась при рассмотрении в 2009–2010 гг. дела «Константин Маркин против России», послужившего для России импульсом к уточнению роли Конституционного Суда в механизме имплементации Конвенции. Суть правового спора в «деле Маркина» состояла в вопросе о наличии или отсутствии дискриминации по гендерному признаку в ситуации, когда мужчины военнослужащие лишены трехгодичного отпуска по уходу за ребенком, предоставляемого женщинам-военнослужащим.
В этом деле сказалась недооценка социокультурной специфики России, когда ЕСПЧ потребовал преодоления того, что он назвал «традициями, гендерными предубеждениями и распространенным среди жителей соответствующей страны мнением». Действительно, такие гендерные предубеждения в России еще далеко не изжиты. Но в том-то и дело, что они действуют не в правовой системе страны, а в реальности семейных отношений, которые все еще в немалой степени базируются на патриархальных традициях распределения ролей между мужчинами и женщинами. Именно поэтому российский законодатель и стремится, там, где возможно, предоставить женщинам законодательные преференции, являющиеся по своей правовой сути не привилегиями, а правовыми компенсациями тех дополнительных усилий по воспитанию детей, которые ложатся на плечи женщин в российских семьях.
Такие законодательные преференции женщинам – это не дискриминация мужчин, а способ преодоления существующей в обществе дискриминации женщин. Принципиальным моментом здесь является то обстоятельство, что позиция России по данному вопросу не расходится с общеевропейскими ценностями гендерного равенства (в том числе и равенства в распределении ответственности за воспитание детей между мужчинами и женщинами). Расхождения возникают лишь при выборе средств обеспечения такого равенства с учетом конкретно-исторических особенностей времени и места реализации данной ценности.
Рассматривая взаимосвязь между отношением КС к решениям ЕСПЧ и исполнением его собственных решений, необходимо напомнить, что КС неуклонно следует принципу обязательности решений ЕСПЧ на территории России. Это неоднократно подчеркивалось, в частности, постановлениях от 14 июля 2015 года № 21-П, от 19 апреля 2016 года № 12-П. Конституционный Суд, принимая решение по делу, анализирует практику ЕСПЧ по соответствующим вопросам и в необходимых случаях может прямо вводить в тексты своих решений правовые позиции ЕСПЧ в качестве дополнительных доводов и аргументов.
Действительно, российское право европеизировано в значительной степени. "Закрывать глаза" или "обходить стороной" подобные коллизии между конституционной системой и решениями европейских наднациональных структур мы не можем сегодня, ибо Россия слишком серьезно вовлечена в европейское правовое пространство.
11 июня 2015 г. группой депутатов Государственной Думы в составе 93 человек был направлен в Конституционный Суд Российской Федерации запрос о противоречиях между национальными и наднациональными правопорядками. Средства массовой информации сразу же увязали направление депутатского запроса в Конституционный Суд с Постановлением ЕСПЧ по делу "ОАО "Нефтяная компания "ЮКОС" против России"[20], обязавшего Россию уплатить почти 2 млрд. евро в качестве компенсации [13, с. 42–48].
Однако главное внимание в запросе депутатов было уделено другому Постановлению ЕСПЧ – по жалобе "Анчугов и Гладков против России"[1], в котором ЕСПЧ признал положе-

ния Конституции РФ о лишении избирательных прав заключенных нарушающими Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод [15, ст. 32, ч. 2]. Это дело, касающееся избирательных прав заключенных, было инициировано двумя российскими гражда- нами, каждый из которых отбывал наказание за убийство и ряд иных преступлений.
В свое время Конституционный Суд РФ отказал в принятии этой жалобы, исходя из того что проверка одних положений Конституции РФ на предмет их соответствия другим положениям Конституции не входит в полномочия Конституционного Суда. А Европейский Суд, куда затем обратились заявители, признал, что имело место нарушение права на участие в выборах, гарантированного ст. 3 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
При этом ЕСПЧ не стал принимать во внимание то обстоятельство, что заявителями оспаривалась не просто норма закона, а норма Конституции страны. Да еще и такая норма, которая может быть изменена лишь в результате принятия новой Конституции. По этому поводу в постановлении ЕСПЧ было лишь замечено, что государство-ответчик может достичь соблюдения Конвенции «за счет некой формы политического процесса или истолкования Конституции России…» Таким образом, России было предложено либо принять новую Конституцию в рамках соответствующей «формы политического процесса», либо дать весьма вольное толкование ее текста. Согласие с позицией ЕСПЧ и предоставление заключенным права голоса на выборах нарушило бы положения Конституции РФ о её высшей юридической силе и приоритете над любыми другими правовыми актами.
В этой ситуации Конституционный Суд своим постановлением от 14 июля 2015 г. принял решение признать положения оспариваемых законов не противоречащими Конституции РФ. В своем постановлении от 19 апреля 2016 г. Суд признал невозможным исполнение мер индивидуального характера в отношении граждан Анчугова (осужден за убийство, кражи, мошенничество) и Гладкова (осужден за убийство, разбой, участие в организованной преступной группе), которые были приговорены к смертной казни, замененной впоследствии пятнадцатью годами лишения свободы. Они были осуждены за совершение особо тяжких преступлений, а, значит, заведомо не могли рассчитывать на доступ к активному избирательному праву ни по Конституции РФ, ни по международным правовым стандартам.
Конституционный Суд исходит из того, что участие России в международном соглашении совершенно не означает отказа от государственного суверенитета. Никакой международный договор, включая Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод и основанные на ней правовые позиции ЕСПЧ, не могут отменять приоритет Конституции. Однако их практическая реализация в российской правовой системе возможна только при условии признания за Конституцией высшей юридической силы. Конституция и Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод базируются на одних и тех же ценностях. Коллизия между ними – редчайший случай. Такие случаи возможны, и тогда России следует отказаться от исполнения решений ЕСПЧ. Это соответствует практике других стран и должно исходить из идеи недопущения самоизоляции, взаимного уважения и развития диалогов разных систем защиты прав человека.
Вместе с тем, только Конституционный Суд может принять такое решение об отказе от исполнения решения ЕСПЧ. Без учета этого обстоятельства существует угроза «растворения» конституционного контроля страны в наднациональным контроле за соответствием российского законодательства праву Совета Европы [11]. О необходимости рационального сочетания национального и конвенционного права справедливо сказала Председатель Верховного Суда Израиля Мириам Наор на VI Петербургском международном юридическом форуме в мае 2016 г.: «Пакты о правах человека были приняты не для того, чтобы с их помощью человечество совершило самоубийство» [22].
Конституционный Суд России в очередной раз подчеркнул признание фундаментального значения европейской системы защиты прав и свобод человека и гражданина, частью которой являются постановления ЕСПЧ, и готовность к поиску правомерного компромисса ради поддержания этой системы. Подтверждением весьма высокого степени интеграционных начал является динамика использования решений ЕСПЧ в постановлениях КС РФ (по пятилетним периодам): в 2000–2004 гг. – 15,9% постановлений КС РФ содержали ссылки на решения ЕСПЧ, в 2005–2009 гг. их стало уже 39,1%, а в период 2010– 2014 гг. – уже 41,2% [4, с. 8].
А то обстоятельство, что степень интеграционного взаимодействия Суд оставляет за собой, поскольку границы компромисса в данном вопросе очерчивает именно Конституция РФ, вполне вписывается в уже существующую практику взаимодействия между ЕСПЧ и целым рядом государств-участников Конвенции.
Главными сферами идущего сейчас на европейском континенте нормативно-правового интеграционного взаимодействия становятся европейские институты международного публичного права, с одной стороны, и национальные институты конституционного права – с другой, имея в виду, что в современных условиях эти две отрасли – международное публичное и конституционное право – регулируют отношения, во многом сходные по своей природе и значительно совпадающие по сферам [16, с. 14–40]. На этой основе становится возможным возникновение качественно нового транснационального правового явления, связанного с формированием европейского конституционализма. Это качественно новая философско-мировоззренческая категория, призванная отразить не столько наднациональную правовую универсализацию, сколько национально-конституционную интеграцию государственноправовых систем Европы на основе их взаимообогащения при сохранении юридического суверенитета правовых систем. Речь идет о процессе инфильтрации конвенционных норм в национальные правовые системы.
В этом проявляется своего рода полифония современного европейского конституционализма или, как считает, например, видный болгарский конституционалист Евгений Танчев, это есть проявление «многоуровневого конституционализма» на европейском континенте [26]. В основе него лежит понимание того, что взаимодействие европейского и национального правопорядков невозможно в условиях субординации и что только диалог между соответствующими правовыми системами является залогом общеевропейского (и в целом международного) правового развития.
Список литературы Конституционное правосудие России и многоуровневый конституционализм
- Anchugov and Gladkov v. Russia / Applications nos. 11157/04 and 15162/05, of 4 July 2013.
- Алексеев С.С. Государство и право. М., 1994.
- EDN: RMLYKZ
- Баглай М.В. Правовое государство: от идеи к практике / Коммунист. 1989. № 6.
- EDN: WPVQAZ
- Бондарь С.Н. Ценностные начала судебной имплементацни конвенционных требований в российскую правовую систему (из практики Конституционного Суда РФ) / Журнал конституционного правосудия. 2016. № 2 (50). С. 2-8.
- Витрук Н.В. Конституционное правосудие в России (1991-2001 гг.): очерки теории и практики. М.: Городец-издат, 2001.