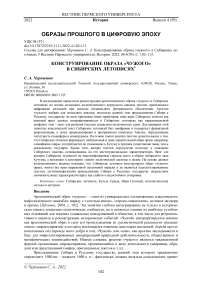Конструирование образа "чужого" в сибирских летописях
Автор: Чернышов С.А.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Советская витринная дипломатия: практики в сфере науки и образования
Статья в выпуске: 4 (59), 2022 года.
Бесплатный доступ
В исследовании проводится реконструкция архетипического образа «чужого» в Сибирских летописях на основе сплошного количественного корпусного анализа текстов, проведенного цифровыми методами при помощи специального программного обеспечения. Архетип «чужого» выбран для детального анализа, поскольку ранний этап присоединения Сибири к Русскому государству по всем признакам (иная территория, иная вера, Сибирское ханство как военный враг) должен интерпретироваться в Сибирских летописях как парадигмальный конфликт «мы - они» для решения текущих социально-политических задач. Для проверки этой гипотезы классический текст Сибирских летописей был оцифрован и подвергнут формальной реорганизации, а затем проанализирован в программном комплексе Antconc, определившем частотность словоформ и конкордансы. На основе такого анализа текстов делается вывод о том, что Сибирские летописи формируют нейтральный и даже уважительный образ врага: например, словоформа «царь» употребляется по отношению к Кучуму в среднем существенно чаще, чем к московскому государю. Кроме того, авторы текстов скрупулезно подходят к описанию Сибирского ханства, останавливаясь на его институциональных характеристиках. Враг для авторов Сибирских летописей не персонифицирован (прежде всего в образе сибирского хана Кучума), а воплощен в категориях «иной» политической системы в целом. На основе данных количественного анализа показано, что Сибирские летописи конструируют образ «чужого» (врага, иного) без ярко выраженной негативной окраски и не являются идеологизированным текстом, легитимизирующим присоединение Сибири к Русскому государству посредством уничижительных характеристик врага как слабого и недостойного соперника.
Сибирские летописи, кучум, ермак, иван грозный, математические методы в истории
Короткий адрес: https://sciup.org/147246444
IDR: 147246444 | УДК: 94 | DOI: 10.17072/2219-3111-2022-4-102-113
Текст научной статьи Конструирование образа "чужого" в сибирских летописях
Архетипический образ «чужого» - одна из универсальных составляющих классического мифологического ансамбля, наряду с «золотым веком», «героем-спасителем», мотивов заговора и прочих [ Шомова , 2004, с. 102]. Эти понятия глубоко интегрированы не только в историческую память социально-политических сообществ, но и являются одними из наиболее устойчивых оснований для текущих социальных коммуникаций в обществе, в том числе для ретроспективного анализа и реконструкции исторических событий. «Чужой» интерпретируется именно как архетипический образ в силу его происхождения из дуалистической реальности традиционного мировосприятия, в котором воплощается извечная дихотомия вселенной, борьба противоположных сил (прежде всего добра и зла). «Чужой», или «они», как архетип закладывается в базу для мифологизированных интерпретаций природной действительности, общественных и метафизических взаимодействий. Иными словами, архетип «чужого» является традиционной формой организации мировосприятия, проявляющейся в виде деятельности (например, обрядов) или представлений (мифов, оригинальных текстов и т.д.).
Присоединение Сибири к Русскому государству, ранний этап которого традиционно определяют 1580-ми – началом 1600-х гг., фактически должно являться классическим приме-
ром столкновения с «чужим» в контексте противостояния «мы - они». Дело здесь не только в военно-политическом характере первоначального этапа присоединения Сибири (что само по себе должно создать запрос на идеологизированное конструирование образа «чужого»), но и в географических, а также религиозных парадигмальных установках. Для средневекового сознания создания значительное перемещение за пределы привычных локаций – это само по себе перемещение в пространстве этических ценностей: либо «впадение во грех» (например, в случае путешествия на «инородческие» земли), либо «стремление к святости» (как в случае с «крестовыми походами») [ Лотман , 2005, с. 114]. Кроме того, Сибирское ханство – это иноверческое образование, пребывание в котором должно восприниматься как «впадение во грех» [ Евсеев , 2012]. Словом, все указывает на то, что Сибирь в целом и Сибирское ханство в частности в исторической памяти и нарративах должны восприниматься как априори враждебные.
В целом мы видим, что к концу XIX в., особенно в локальной исторической памяти, образ Сибири, с одной стороны, складывается в классической архетипической парадигме «чужого», с другой – обладает рядом специфических характеристик. Сама Сибирь как географический объект (или, точнее, как воображаемая, далекая, недоступная локация) в локальной исторической памяти традиционно воспринимается как «земля обетованная», начиная с первых известных нам исторических преданий, датирующихся XVII в. [ Тумилевич , 1980]. Без особенных корректировок этот же образ дожил до наших дней. Вот, например, формулировка современного районного издания Пермского края: «Раньше других понял Ермак, что такое Урал и Сибирь для Руси, для русского народа, и подарил этому народу даже не царский, больше, подарок – красивейшие и богатейшие территории» [Легендарный Ермак Тимофеевич, 2016, с. 27].
Этой идиллической картине мешает только один фактор – хан Кучум, однозначно и стабильно воспринимаемый как воплощение зла. Скажем, в конце XIX в. тобольский краевед и этнограф М. С. Знаменский писал: «Кучум представляется мне в образе одного старца… раненый несколькими пулями и штыком, величественно и гордо сидел он в луже из своей крови с бледным, старческо красивым и спокойным лицом» [ Знаменский , 1891, с. 2]. В конце XX в. аналогичный же образ Кучума транслирует тобольский писатель В. Ю. Софронов: «Он ведет свою стаю в набег на сибирских баранов. Он будет им ханом. Сибирским. Великим. Единым. Он будет их рвать! Резать! Рубить! Жечь! Топтать! Он отомстит за подлое убийство своего деда Ибака» [ Софронов , 1993, с. 12]. То, что Кучум – это воплощение злых сил, дьявола, фиксируется не только в фольклорных и краеведческих материалах, но и в локальных артефактах. Например, тот же М. С. Знаменский описывал якобы хранящееся в конце XIX в. в Березове древнее знамя Ермака, где «с одной стороны изображен Архангел Михаил на красном крылатом коне, поражающей копьем дьявола… на другой – св. Дмитрий на темнозеленой лошади, низвергающий копьем в пропасть Кучума на белой лошади» [ Знаменский , 1891, с. 2].
Важно отметить, что оценочные характеристики Сибирского ханства как некоего институционального врага в локальной исторической памяти фактически отсутствуют. Они заменены коллективным Кучумом, который противостоит присвоению русскими казаками «земли обетованной».
С другой стороны, некоторые подходы к структурно-описательным характеристикам образа «чужого» должны содержаться и в Сибирских летописях как ключевом историческом источнике, в котором описаны обстоятельства и ход первоначального этапа присоединения Сибири к Русскому государству. Сибирские летописи - обобщенное название сложно структурированных и негомогенных текстов, в состав которых традиционно включают совокупность текстов группы Есиповской, Строгановской летописей, Кунгурскую летопись, а также ряд вариаций Ремезовской летописи.
В отечественной историографии в целом сложился консенсус относительно типологических особенностей Сибирских летописей. Так, группа Есиповской летописи считается «официальным сибирским произведением», написанном под влиянием центрального правительства и церкви [Дергачева-Скоп , 2000, с. 9]. Строгановская летопись представляется совокупностью субъектно-ориентированных текстов, призванных подчеркнуть особую роль Строгановых в присоединении Сибири. Ремезовская летопись рассматривается как текст, выполненный в контексте некоторого набора концептуально-героических, провиденциалистских представлений автора, а вставленная в нее Кунгурская – как реликт первоначальных устных народных преданий, относящихся едва ли не к участникам похода Ермака.
Как правило, объектом анализа исследователей в Сибирских летописях являются их общие структурно-содержательные характеристики, авторские установки [ Ромодановская , 2002, с. 97], влияние отдельных субъектов на содержание текстов – например, церкви [ Бахрушин , 1955], а также вопросы хронологии и содержания отдельных событий [ Солодкин , 2015] или эпизодов [ Солодкин , 2011]. Реконструкция образов отдельных категорийных характеристик Сибирских летописей (например, образы «чужого», «народа» или «государства»), в том числе при помощи цифровых методов, пока находится за пределами интереса исследователей этого нарратива. Более того, представляется, что только цифровыми методами и возможна подобная реконструкция, поскольку традиционные парадигмы исследований сибирского летописного свода действительно фактически исчерпали свой потенциал ответов на исследовательские вопросы.
В настоящем исследовании мы ставим цель комплексно реконструировать образ «чужого» в Сибирских летописях на основе сплошного количественного анализа летописных текстов методами цифрового корпусного анализа, а также выявить возможные субъектноориентированные причины формирования установленных аспектов этого образа.
Методология и методы исследования
Ключевой методологической предпосылкой настоящего исследования является гипотеза о сознательном конструировании важных для повествования образов авторами Сибирских летописей в контексте решаемых ими текущих социально-политических задач. Образ «чужого» в условиях военно-политического противостояния первого периода присоединения Сибири к Русскому государству является, несомненно, критически важным для авторов Сибирских летописей как реконструирующих события относительно недавнего прошлого (тексты Сибирских летописей, как принято считать, отстоят от описываемых событий на 40-50 лет).
Такой подход близок к классической модели Ю. М. Лотмана, для которого текст состоит не только из собственно сообщения, но и из контекста, а также субъективных характеристик передающего и принимающего – их «кодов» [ Лотман , 1992, с. 13]. «Коды», будучи априори различными, являются, таким образом, не только основной для драматургии текста, но и для диалога между субъектами коммуникаций. Даже в текст, который считается первоисточником, «коды» ретроспективно вкладывает некий автор или авторской коллектив, трансформируя случившееся в полном соответствии с утверждением, что история есть «единство совершенных актов и слова о них» [ Виролайнен , 2007, с. 14]. При этом коммуникативные акты о событиях, как правило, всегда субъектно-ориентированные и направлены на решение актуальных социально-политических задач, прежде всего – «сборки воображаемых сообществ» [ Агапов , 2016, с. 142], формирования общих архетипических констант того или иного сообщества.
В этом смысле смысловая нагрузка образа «чужого» для авторов Сибирских летописей, очевидно, должна формировать, с одной стороны, легитимизирующую основу для военнополитического покорения Сибири, с другой стороны, демонстрировать слабый, ущербный образ врага. Этот тезис мы будем использовать в качестве гипотезы для количественного анализа текстов Сибирских летописей.
Для анализа текстов был использован инструментарий сплошного количественного корпусного семиотического анализа с применением подходов «больших данных». Источником текстов стало классическое издание Сибирских летописей, выполненное Императорской археографической комиссией в 1907 г. ( Сибирские летописи , 1907). Данный сборник содержит семь текстов группы Есиповской летописи (по Сычевскому списку, по списку Ундонского, по Абрамовскому списку, по Румянцовскому списку, по Погодинскому списку, по Бузуновскому списку, по Головинскому списку), три текста группы Строгановской летописи (по списку Спасского, по Толстовскому списку, в сокращении по Афанасьевскому списку), а также Ремезовскую летопись по Мировичеву списку. Поскольку в данном издании Кунгурская летопись присутствует в составе Ремезовской летописи, анализ текстов был проведен как в издании, так и отдельно – путем механического вычленения текста Кунгурской летописи на основании классических подходов Е. И. Дергачевой-Скоп к определению границам одного текста в составе другого ( Летописи сибирские , 1991).
Исходный текст вначале был подвергнут оцифровке и технической обработке (удаление или замены букв старого алфавита, удаление технической информации и прочее), затем была проведена формальная реорганизация в виде лемматизации. Корпусный анализ тек- ста был проведен в программном комплексе Antconc, определившем частотность словоформ и конкордансы.
Для анализа текста на предмет структурно-смысловых характеристик образа «чужого» была выделена система смысловых категорий, отражающая, о чем и как говорят авторы Сибирских летописей, имея в виду Кучума, Сибирское ханство, Сибирь и ее обитателей. Опуская исключительно географические характеристики территории (гидронимы, русские города и прочее), являющиеся нейтральными, мы сформировали следующую систему категорий, подкатегорий и словоформ (табл. 1). Основой для этой системы категорий стал предварительный анализ текста на предмет частотности употребления словоформ, в итоговый список вошли все словоформы, которые встречаются хотя бы в одном из текстов пять раз (включительно).
Таблица 1
Система смысловых категорий, используемая для количественного анализа образа «чужого» в Сибирских летописях
|
Категория |
Подкатегория |
Словоформы, встречающиеся хотя бы в одном из текстов 5 раз и более |
|
Оценочная терминология |
Позитивная коннота ция |
Благочестивый, мудрость, мудрый, слава, честь, честный, храбрый, храбрость, богатство |
|
Негативная коннота ция |
Поганый, погань, окаянный, безбожный, нечестивый |
|
|
Образ врага (иного) |
Отдельные персоны |
Кучум, Маметкул, Сейдяк, Жена (Кучу-ма) |
|
Институты государ ственности |
Царство, салтан, карача, карачи, царевич, царевичь, мурза, посол, орда, улус, бусурман, бусурманский |
|
|
Этнонимы |
Татарин, тотар, остяк, остяцкий, само-ядец, вогулич, бухарц |
|
|
Отдельные лич ности |
Кучум, Ермак, Ермаков, Сейдяк, Строганов (Максим, Никита, Григорий, Семен…), Чингис, Маметкул |
|
|
События и дей ствия |
Боевые действия, акты насилия |
Побивать, поби, воевать, взяш, взять, покорять, бой, нападош, побеждать, победа, одолеша, убиение, убивать, убиша, погребош, отпускать |
|
Акты коммуникаций |
Реча, слышать, сказаша, глаголать, сказать, вид, видеть, видение, видевший |
|
Таким образом, мы анализируем образ «чужого» в нескольких аспектах. Прежде всего как военно-политической силы, с которой сталкиваются русские, придя в Сибирь, – это категория «Образ врага (иного)». Также мы оцениваем частотность упоминаний отдельных личностей: Кучума, Маметкула, Сейдяка и других (категория «Отдельные личности»), оценочные суждения авторов летописей – как положительные, так и отрицательные (категория «Оценочная терминология»), а также описываемый характер действий – созидательных и разрушительных (категория «События и действия»).
Учитывая разный объем исходных текстов (от 837 до 11 275 слов в отдельных списках), для анализа были использованы относительные данные: для учета количества тех или иных словоформ в аналитических таблицах используются не абсолютные показатели (количество словоформ в тексте), а относительные - доля словоформ/словоформы в общем количестве слов в процентах (количество знаков после запятой в этих значениях округлено до двух). Такой подход позволяет анализировать содержательную часть разных по объему текстов более объективно. Данные по группам Есиповской и Строгановской летописей приведены в виде средних значений среди семи и трех текстов соответственно.
Технически такого рода анализ исходит из гипотезы об увеличении значении той или иной словоформы (категории в целом) для автора текста пропорционально упоминаемости этой словоформы (категории) в тексте. То есть, например, чем больше в тексте упоминаний Кучума или Ермака, тем важнее эти персонажи для автора текста (вне зависимости от оценки их деятельности). Аналогично анализируется и событийный ряд: соотношение разрушительных и созидательных действий демонстрирует нам характер описания продвижения русских в Сибирь и отношений с «чужим» и т.д.
Результаты исследования
Начнем с ключевой для нашей проблематики категории – «Образ врага (иного)». Эта категория позволяет увидеть, при помощи каких смысловых образов авторы Сибирских летописей видят Сибирское ханство, которому противостоят казаки и позже – регулярные военные силы (табл. 2).
Из табл. 2 видно, что летописи довольно подробно и часто говорят о Сибирском ханстве, и это внимание уделяется вне зависимости от группы летописей. При этом основной акцент делается, с одной стороны, на отдельных личностях (прежде всего Кучуме, на втором месте по упо-минаемости – царевич Маметкул, тайбугид Сейдяк, примечательно что в Кунгурской летописи отдельно и часто упоминается жена хана Кучума), с другой стороны, что не менее важно, - на институтах государственности.
Таблица 2
Частотность подкатегорий и словоформ в категории «Образ врага (иного)»
|
Подкатегории и словоформы |
Группа Есиповской летописи (в среднем) |
Кунгурская летопись |
Ремезов-ская (без Кунгурской) летопись |
Ремезов-ская (вместе с Кунгурской) летопись |
Группа Строгановской летописи (в среднем) |
|
Образ врага (иного) |
2,80 |
2,23 |
1,48 |
1,92 |
1,92 |
|
Отдельные персоны |
0,94 |
1,02 |
0,57 |
0,83 |
0,59 |
|
Кучум |
0,70 |
0,70 |
0,37 |
0,56 |
0,33 |
|
Маметкул |
0,23 |
0,09 |
0,05 |
0,23 |
|
|
Сейдяк |
0,19 |
0,01 |
0,20 |
0,09 |
0,09 |
|
Жена (Кучума) |
0,22 |
0,13 |
|||
|
Институты государ ственности |
1,44 |
0,88 |
0,73 |
0,82 |
0,84 |
|
Царство |
0,41 |
0,11 |
0,07 |
0,07 |
|
|
Салтан |
0,11 |
0,09 |
0,04 |
0,15 |
|
|
Карача, карачи |
0,36 |
0,09 |
0,11 |
0,10 |
0,14 |
|
Царевич, царевичь |
0,30 |
0,06 |
0,04 |
0,19 |
|
|
Мурза |
0,14 |
0,11 |
0,13 |
0,13 |
|
|
Посол |
0,24 |
0,08 |
0,12 |
0,10 |
0,15 |
|
Орда |
0,12 |
0,06 |
0,04 |
0,05 |
0,06 |
|
Улус |
0,16 |
0,11 |
|||
|
Бусурман, бусурманский |
0,33 |
0,27 |
0,30 |
0,07 |
|
|
Этнонимы |
0,42 |
0,33 |
0,18 |
0,27 |
0,49 |
|
Татарин, тотар |
0,30 |
0,05 |
0,16 |
0,10 |
0,22 |
|
Остяк, остяцкий |
0,16 |
0,09 |
0,02 |
0,06 |
0,24 |
|
Самоядец |
0,06 |
||||
|
Вогулич |
0,11 |
0,07 |
0,17 |
||
|
Бухарц |
0,08 |
0,04 |
В отличие от дискурсов локальной исторической памяти, для авторов Сибирских летописей враг – это не только персонифицированный сибирский хан, но и некоторая система институциональных характеристик ханства. Это демонстрирует значительная частотность словоформ «царство» (важно, что этот термин упоминается в текстах почти исключительно по отношению к Сибирскому ханству), «салтан», «мурза» и др. Особо следует упомянуть, что все группы летописей включают частое упоминание словоформы «посол». По-видимому, это призвано подчеркнуть подчиненный, просящий характер покоряющегося Сибирского ханства. Менее популярны в текстах этнонимы, которые представлены словоформами «татарин», «остяк» и др. Это обстоятельство, как видно, не является значимым для авторов этих текстов.
Таким образом, несмотря на явно институционально-ориентированный характер образа Сибирского ханства в текстах Сибирских летописей, повествование в целом все равно ориентировано на действия конкретных личностей. Это следует из табл. 3, где представлены данные об упоминаемости отдельных персонажей в текстах. Если не брать во внимание очевидное свойство Строгановских летописей, призванное подчеркнуть особую роль рода Строгановых в покорении Сибири, в общем летописные своды довольно гомогенны во внимании к отдельным персонам. Фактически для авторов Сибирских летописей первоначальный этап покорения Сибири – это прежде всего противостояние между главными героями – Кучумом и Ермаком (еще одно качество упомянутого ранее классического мифологического ансамбля), причем упоминания этих героев сопоставимы.
Таблица 3
Частотность подкатегорий и словоформ в категории «Отдельные личности»
|
Подкатегории и словоформы |
Группа Есиповской летописи (в среднем) |
Кунгурская летопись |
Ремезов-ская (без Кунгурской) летопись |
Ремезов-ская (вместе с Кунгурской) летопись |
Группа Строгановской летописи (в среднем) |
|
Кучум |
0,65 |
0,73 |
0,34 |
0,56 |
0,33 |
|
Ермак, Ермаков |
0,75 |
1,11 |
0,46 |
0,84 |
0,58 |
|
Сейдяк |
0,21 |
0,20 |
0,08 |
||
|
Строганов (Максим, Никита, Григорий, Семен…) |
0,13 |
0,13 |
0,07 |
0,35 |
|
|
Чингис |
0,12 |
||||
|
Маметкул |
0,19 |
0,09 |
0,05 |
0,20 |
Важная деталь – титулатура Кучума и московского правителя (в основном в Сибирских летописях речь идет об Иване Васильевиче и Федоре Ивановиче). Словоформа «государь» в Сибирских летописях употребляется исключительно по отношению к московскому правителю и никогда – по отношению к сибирскому. Напротив, словоформа «царь» чаще встречается по отношению к Кучуму, нежели в Ивану Васильевичу или Федору Ивановичу (табл. 4). Исключение составляет Строгановская летопись, где в Толстовском списке количество упоминаний словоформы «царь» по отношению к Кучуму и Ивану Грозному практически одинаковое. Кроме того, интересен кейс Ремезовской и Кунгурской летописей, где словоформа «царь» упоминается не столько по отношению к одному из этих правителей, сколько к самым разным персонажам: Абалаку, «небесному царю», «казанскому царю», «Чингису», «ишимскому царю», «персидскому царю», Мамаю, Борису Годунову и прочим.
Эти данные представляются нам крайне важными для рассматриваемой темы. Несмотря на явно конструируемый образ врага, Кучум упоминается уважительной титулатурой «царь», причем даже чаще, чем московские правители. Можно предположить, что это связано не только с благородством авторов Сибирских летописей, но и с их явным пониманием контекста: Кучум как чингизид имеет при прочих равных больше прав на такую титулатуру, нежели Иван Грозный.
Таблица 4
Конкордансы термина «царь» в Сибирских летописях2
|
Летопись |
Кучум |
Иван Васильевич |
Федор Иванович |
|
Есиповская по Абрамовскому списку |
34 |
9 |
3 |
|
Есиповская по Бузуновскому списку |
51 |
17 |
|
|
Есиповская по Головинскому списку |
7 |
5 |
3 |
|
Есиповская по Погодинскому списку |
48 |
6 |
3 |
|
Есиповская по Румянцевскому списку |
12 |
4 |
2 |
|
Есиповская по Ундольскому списку |
71 |
12 |
4 |
|
Есиповская по Сычевскому списку |
47 |
11 |
2 |
|
Кунгурская |
7 |
5 |
1 |
|
Ремезовская (без Кунгурской) |
1 |
1 |
1 |
|
Ремезовская (вместе с Кунгурской) |
8 |
6 |
2 |
|
Строгановская в сокращении по Афанасьевскому списку |
5 |
5 |
1 |
|
Строгановская по списку Спасского |
40 |
22 |
3 |
|
Строгановская по Толстовскому списку |
38 |
39 |
5 |
Система оценочных суждений, применяемая в летописях, является одной из наиболее противоречивых категорийных систем в настоящем исследовании, прежде всего в силу дискуссионного вопроса о том, следует ли считать термин «поганые» или «безбожные» словами с явно негативной коннотацией, либо для имеющегося контекста речь идет скорее о нейтральных определениях. Тем не менее мы полагаем, что данный и аналогичные термины следует относить скорее к оценочным суждениям (табл. 5).
Таблица 5
Частотность подкатегорий и словоформ в категории «Оценочная терминология»
|
Подкатегории и словоформы |
Группа Есиповской летописи (в среднем) |
Кунгурская летопись |
Ремезов-ская (без Кунгурской) летопись |
Ремезов-ская (вместе с Кунгурской) летопись |
Группа Строгановской летописи (в среднем) |
|
|
Оценочная терминология |
0,70 |
0,23 |
0,57 |
0,37 |
1,02 |
|
|
П |
озитивная коннотация |
0,11 |
0,15 |
0,50 |
0,30 |
0,39 |
|
Благочестивый |
0,11 |
0,10 |
||||
|
Мудрость, мудрый |
0,21 |
0,09 |
||||
|
Слава |
0,01 |
0,11 |
0,05 |
|||
|
Честь, честный |
0,05 |
0,11 |
0,07 |
0,12 |
||
|
Храбрый, храбрость |
0,22 |
|||||
|
Богатство |
0,09 |
0,07 |
0,08 |
|||
|
Негативная коннотация |
0,60 |
0,08 |
0,07 |
0,07 |
0,76 |
|
|
Поганый, погань |
0,49 |
0,08 |
0,07 |
0,07 |
0,46 |
|
|
Окаянный |
0,03 |
0,23 |
||||
|
Безбожный |
0,02 |
0,19 |
||||
|
Нечестивый |
0,12 |
0,08 |
||||
Из представленных данных в целом видно, что Сибирские летописи являются скорее нейтральным, чем морализаторским или осуждающим текстом: оценочные суждения не являются здесь доминирующими. Однако, если они и присутствуют в тексте, то чаще имеют негативную коннотацию, нежели позитивную (исключение составляют только Ремезовская и Кунгурская лето- писи). При этом среди негативных оценок доминирует как раз противоречивая словоформа «погань» («поганые»), а в Строгановских летописях – еще и «окаянный» и «безбожный». Из этого можно с необходимыми оговорками сделать вывод о том, что Сибирские летописи - неидеологизированный текст.
Несколько иную картину демонстрирует нам анализ категорий «События и действия» (табл. 6). Мы видим, что все тексты «Сибирских летописей» - очень динамичные, с доминирующей подкатегорией «Передвижения». Ключевое действие этих текстов в целом описывается словоформами «придош», «идти», «пришед» и другими аналогичными. Минимальное значение имеют здесь акты коммуникаций и созидательные действия (например, описание создания «городков»). Но следует выделить подкатегорию «Боевые действия», особенно в Кунгурской летописи, где тактические подробности ведения боя казаками являются фактически доминирующими. То есть, несмотря на отсутствие явно негативных суждений по отношению к сибирскому воинству и Сибирскому ханству в целом, тексты Сибирских летописей демонстрируют активные действия против врага.
Таблица 6
Частотность подкатегорий и словоформ в категории «События и действия»
|
Подкатегории и словоформы |
Группа Есиповской летописи (в среднем) |
Кунгурская летопись |
Ремезов-ская (без Кунгурской) летопись |
Ремезов-ская (вместе с Кунгурской) летопись |
Группа Строгановской летописи (в среднем) |
|
|
События и действия |
1,80 |
2,93 |
1,78 |
2,50 |
2,50 |
|
|
Передвижения |
0,83 |
0,88 |
0,62 |
0,77 |
0,96 |
|
|
Придош, поидош, идти, доидош, прида, идеж, идти, приход, пришед, побе-гош, пришествие и т.п. |
0,77 |
0,25 |
0,41 |
0,32 |
0,89 |
|
|
Бегство, бежать |
0,12 |
0,06 |
0,11 |
0,08 |
||
|
Становиться, стоять |
0,08 |
0,05 |
0,11 |
0,07 |
0,08 |
|
|
Возвратишась, возвра щаться |
0,06 |
0,14 |
0,08 |
0,06 |
||
|
Ехать, приезжать, ездить |
0,29 |
0,17 |
||||
|
Волочь |
0,08 |
0,04 |
||||
|
Боевые действия, акты насилия |
0,63 |
1,20 |
0,59 |
0,94 |
0,54 |
|
|
Побивать, поби, воевать |
0,18 |
0,14 |
0,16 |
0,15 |
0,17 |
|
|
Взяш, взять, покорять |
0,22 |
0,31 |
0,18 |
0,25 |
0,26 |
|
|
Бой |
0,17 |
0,33 |
0,19 |
|||
|
Нападош |
0,09 |
0,05 |
||||
|
Побеждать, победа, одо-леша |
0,11 |
0,09 |
0,12 |
0,10 |
0,14 |
|
|
Убиение, убивать, убиша |
0,10 |
0,09 |
0,09 |
0,09 |
0,06 |
|
|
Погребош |
0,13 |
0,04 |
0,09 |
|||
|
Отпускать |
0,11 |
0,07 |
0,06 |
|||
|
Акты коммуникаций |
0,37 |
0,74 |
0,32 |
0,55 |
0,31 |
|
|
Властные действия |
0,29 |
0,10 |
0,16 |
0,19 |
0,49 |
|
|
Созидательные действия |
0,12 |
0,01 |
0,09 |
0,04 |
0,20 |
|
Заключение
Проведенный сплошной количественный корпусный анализ текстов Сибирских летописей, таким образом, лишь частично подтвердил гипотезы настоящего исследования. Частотность упоминания отдельных словоформ и категорий в целом демонстрирует нам довольно спокойное повествование об архетипичном образе «чужого». С точки зрения результатов количественного анализа текстов главные герои, как и необходимо в эпическом произведении, - это Кучум и Ермак. Однако авторы текстов относятся к упоминанию Кучума в целом сдержанно и даже уважительно: словоформа «царь» употребляется по отношению к нему в среднем существенно чаще, чем к московскому государю. Более того, авторы текстов скрупулезно подходят к писанию Сибирского ханства, останавливаясь на его институциональных характеристиках (словоформы «царство», «салтан», «мурза» и др.). Негативные коннотации по отношению к врагу фиксируются в основном через словоформы «погань», «поганые», реже – «безбожный» и «окаянный».
В целом мы видим, что конструирование архетипического образа «чужого» в Сибирских летописях проводится без ярко выраженной негативной окраски и напоминает скорее нейтральное историческое повествование, нежели идеологизированный текст, решающий конкретные социально-политические задачи по легитимизации присоединения Сибири к Русскому государству посредством уничижительных характеристик врага как слабого и недостойного соперника.
Таким образом, проведенный цифровыми методами анализ текстов Сибирских летописей демонстрирует на первый взгляд противоречивую картину. Сибирское ханство и Сибирь в целом по всем представлениям о дуальности средневекового сознания должны интерпретироваться в парадигме архетипа «чужого», однако авторы Сибирских летописей описывают нам военного врага Русского государства как институционально оформленное политическое образование, фактически как достойного противника, ограниченно используя ожидаемые для такой ситуации негативные коннотации. При этом титул «царь» употребляется по отношению к Ку-чуму кратно чаще, чем по отношению к Ивану Грозному. Подобный нейтралитет или даже подчеркнутое уважение особенно ярко иллюстрируются при сопоставлении с образами покорения Сибири, которые фиксируются в локальной исторической памяти, где Кучум – это воплощение концентрированного зла, противостоящего цивилизаторским попыткам русских присоединить Зауралье.
Наиболее очевидной интерпретацией такого рода характеристик текстов Сибирских летописей может быть тезис об изначальном отсутствии у авторов установок на идеологизацию присоединения Сибири. Однако нам представляется более комплексной версия, уходящая корнями в евразийство и развиваемая современными авторами [ Шерстова , 2014], согласно которой современники мыслили постзолотоордынский мир (к которому, несомненно, относятся как Московское государство, так и Сибирское ханство) как действующее по единым принципам, институционально единообразно оформленное социальное пространство. Именно этим обстоятельством сторонники данного подхода объясняют относительно простую интеграцию Западной Сибири в политическое пространство Русского государства: здесь не нужно было создавать или существенно реорганизовывать институты государственности, они работали идентично – что в Сибири, что в Московии. Если так, то Сибирские летописи, фактически не интерпретируя Сибирское ханство в архетипической парадигме «чужого», подтверждают эту версию. Нейтральное или даже уважительное отношение авторов текстов Сибирских летописей к политическим образованиям Западной Сибири может говорить нам о том, что в Русском государстве не воспринимали Зауралье как воплощение «чужого», принципиально не интерпретировали Сибирское ханство в парадигме «мы - они», оставаясь в системе установок единого социального пространства.
Необходимо отметить, что описанный механизм решения поставленных исследовательских вопросов имеет известные ограничения, связанные прежде всего с обработкой и категорийной разметкой текста, которая не является естественной для исходных материалов. Однако, по устоявшемуся мнению, это не противоречит возможности работы с комплексом подобных текстов как массовым источником [ Гарскова , Симонженкова , 2019, с. 173] и является, по существу, общераспространенной современной парадигмой работы с текстами на основе конкретных исследовательских задач и дизайна того или иного научного проекта [ Гарскова , 2015].
В качестве перспективы решения поставленных исследовательских вопросов описываемыми методами можно отметить возможность цифрового количественного анализа иных, более ситуативных, чем Сибирские летописи, текстов – скажем, посольских документов или переписки московских правителей с сибирскими воеводами. Такое продолжение настоящего исследования будет иметь существенное значение для реконструкции дискурсов Сибирских летописей при помощи современных подходов и технологий.
Список литературы Конструирование образа "чужого" в сибирских летописях
- Агапов М.Г. Аватары Ермака: монументальные формы репрезентации и актуализации исторической памяти // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2016. № 1 (32). С. 142-150. EDN: VRNHID
- Бахрушин С.В. Научные труды. М.: Изд-во АН СССР, 1955. Т. 3, ч. 1. 375 с. EDN: LXRRMT
- Виролайнен М.Н. Исторические метаморфозы русской словесности. СПб.: Амфора, 2007. 495 с. EDN: QSZYDD
- Гарскова И. М. Новые тенденции в компьютеризованном анализе текстов: концепции, методы, технологии [Электронный ресурс] // История. 2015. T. 6, вып. 8 (41). URL: http://history.jes.su/s207987840001255-9-1 (дата обращения: 23.01.2022).
- Гарскова И.М., Симонженкова Е.М. О формализованной методике анализа комплексов мемуарных источников // Историческая информатика. 2019. № 1. С. 169-188. EDN: GFSMEO