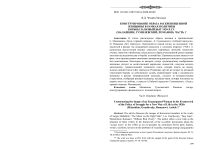Конструирование образа раскрепощенной женщины в рамках политики борьбы за новый быт 1920-х гг. (Малашкин, Гумилевский, Романов). Часть 1
Автор: Чечнв Яков Дмитриевич
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 4 (55), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены образы женщин в произведениях С. Малашкина «Луна с правой стороны», Л. Гумилевского «Собачий переулок», П. Романова «Без черемухи». Предлагается новый взгляд на положение этих писателей в рамках так называемой дискуссии о «половом вопросе» 1920-х гг. (комплекса выступлений видных советских партийных деятелей, писателей, ученых, юристов о проблемах сексуальности, брака в молодежной среде) в рамках политики культурничества и борьбы за новый быт. Примечательным является тот факт, что в произведениях означенных авторов ведущая роль отводится студенткам или комсомолкам. Некоторые из авторов, следуя традиционному изображению женщины, рисуют ее носительницей моральных ценностей, «сосудом вечного наполнения», хранительницей домашнего очага, которая пошла на поводу модных веяний эпохи («Без черемухи» Романова), другие же делают ее активной участницей борьбы за собственную судьбу, развенчивают миф о пассивности женщины в рамках патриархальной культуры, следуют за модернистскими открытиями, изображая роковую женщину, женщину-вамп, которая поставила на первое место не любовь, а страсть («Собачий переулок» Гумилевского, «Луна с правой стороны» Малашкина).
Малашкин, гумилевский, романов, гендер, конструирование, фемининность, половой вопрос
Короткий адрес: https://sciup.org/149127472
IDR: 149127472 | DOI: 10.24411/2072-9316-2020-00102
Текст научной статьи Конструирование образа раскрепощенной женщины в рамках политики борьбы за новый быт 1920-х гг. (Малашкин, Гумилевский, Романов). Часть 1
Д.Д. Благой отмечал, что после революции 1917 г. в литературе возник «редчайший разлом» («за» или «против» Октября), который имел неприкрыто политический характер: «Невиданная по размаху и силе разрушения, направленных на старый буржуазно-дворянский мир, Октябрьская социалистическая революция поставила <...> вопрос, волновавший, в сущности, всех больших русский писателей и мыслителей, начиная с Радищева, декабристов и Пушкина: <...> смогут ли уцелеть <.. .> те высшие достижения культуры, то лучшее, что красит и обогащает духовную жизнь русских людей <...> во всесожигающем пламени стихийного восстания народных масс» [Благой 1917, 196].
В начале 1920-х гг. с подачи ведущих на тот момент теоретиков группы «Октябрь», с которой начинается история Российской ассоциации пролетарский писателей (РАПП), вся культура пошлого, в том числе и литература, характеризовалась как «буржуазно-дворянская, идеологически враждебная пролетариату, как антипод пролетарской литературы» [Шешуков 1984, 18]. Разумеется, подобные взгляды не разделяли все писатели, будь то «попутчики», как те же П.С. Романов и Л.И. Гумилевский, или выходцы из крестьян (С.И. Малашкин) и рабочих. Однако за пролетарской группировкой в лице «Октября», уровень подготовки литкритиков которой в начале 1920-х гг. был не так велик, стояло большинство «писательских кадров», а «ясные и четкие» творческие задачи, поставленные группой, были приняты к действию.
Главной из них стало соблюдение принципа реализма, понимаемого как описание «предмета в целом, в его конкретном значении и в процессе закономерного развития» с одним уточнением: основным, если не единственным действующим лицом должен являться пролетариат [Шешуков 1984, 20-21]. Подробно реконструированную дискуссию

вокруг реалистического метода рапповцев, перевальцев и лефовцев, теории которых в равной степени оказали влияние на формирование социалистического реализма, можно посмотреть в докторской диссертации А.Ю. Овчаренко [Овчаренко 2019, 151-194] или в книге Н.М. Малыгиной «Андрей Платонов и литературная Москва» [Малыгина 2018, 31-210].
Требование реализма ставило под сомнение состоятельность «декадентского искусства» с его раздроблением творческого образа в самодовлеющий живописный орнамент (имажинизм), выделением слова-ритма как такового в самоцель (футуризм), фетишизированием звука, «возникающего в период упадка буржуазии и выросшего на почве нездоровой мистики» (символизм). Формы, предложенные буржуазной литературой, должны были быть освоены и преобразованы пролетарскими писателями путем критического осмысления «богатого опыта прошлого» [Шешуков 1984, 19-20]. То есть, воспринимая предшествующую литературу, в особенности литературу модернистскую, с точки зрения идеологии как реакционную и враждебную, художники Советского Союза, тем не менее, должны были знать «врага в лицо»: брать ту или иную художественную форму «декадентов», наполнять ее классовопролетарским содержанием и критически переосмыслять, тем самым создавая новую «синтетическую» форму пролетарской литературы. Таким образом, не подозревая о том, что модернистская культура выработала язык «чрезвычайно богатый, рафинированный, утонченный, пластический, гибкий», который, будучи глубоко усвоенным, «становится lingua franca всей предшествующей многовековой культуры, “введением в грамматику” литературной традиции» [Полонский 2011, 11-12], писатели укрепляющейся республики Советов оказывались интерпретаторами этой буржуазно-дворянской культуры, усваивая те или иные ее элементы.
То же касается и переосмысления экспериментов с конструктами маскулинности и фемининности, происходившими в литературе русского модернизма в реальном и виртуальном полях. Как отмечает В.Б. Зусева-Озкан, это отразилось «на уровне биографий писателей <.. .> и на уровне собственно литературных произведений», в которых особое внимание уделялось «психологии пола», «проблемам сексуальности (нередко в анормативном аспекте)» [Зусева-Озкан 2019, 30]. Не имея возможности в рамках данной работы остановиться подробно на различных аспектах проблемы сексуальности, ее истоках (романы Н.Г. Чернышевского «Что делать?», Н.С. Лескова «Некуда», П.Д. Боборыкина «Жертва вечерняя» и т.д.) и развитии в литературе русского модернизма, отметим, что на волне подъема женского движения в конце XIX - начале XX веков протест против «двойной морали» во имя «реабилитации плоти» выражали как безликие литераторы специальных изданий, смакующих «скабрезные картинки» половой жизни, вроде «Почты Амура», «Ночей безумных», «Брачной газеты», так и мастера слова: Л. Андреев, Ф. Сологуб, А. Куприн и др. Художники уделяли внимание социальной стороне вопроса, описывали безучастие духовного начала в сексуальных отношениях, упрощали взаимоотношения между мужчиной и женщиной, жизнь духа подменяли жизнью тела, примитивизировали эвдемонизм (он приравнивался к гедонизму), смаковали телесный сенсуализм [Радин 1910, 32^13]. Обертона добавляли другие литераторы, например, Скиталец («Огарки»), А. Каменский («Леда», «Четыре», «Люди»), М. Крестовская («Исповедь Мытищева»), Л. Чарская («Вакханка») и др. Претекстом многочисленным прозаическим и поэтическим выступлениям подобного рода служил роман М.П. Арцыбашева «Санин» [Михайловский 2011, 236-240].
В 1920-е гг. «декадентские традиции» предыдущей литературы начали себя проявлять в сочинениях пролетарских и других писателей в особенности во время борьбы за новый быт, теоретиком которой выступил Л.Д. Троцкий. Как показали разыскания Д.С. Московской [Московская 2010, 84-97], «борьба за новый быт» задумывалась как борьба с носителями патриархального сознания, т.е. с самым многочисленным классом бывшей императорской России — крестьянством, которое представляло наибольшую опасность для скорейшей пролетаризации общества, поскольку значительную роль в этом классе играли семейные отношения. Большевики стремились сломить бытовые традиции, которые угрожали затуханию революции. Для этого необходимо было по-другому подойти к трактовке семейных отношений. Советское общество должно было вместо церкви выступить гарантом законности заключаемого в ЗАГСе союза. Семья трактовалась как «первостепенной важности орудие общественного распределения» [Ильинский 1927, 149-150].
Выбранные нами авторы, С.И. Малашкин, Л.И. Гумилевский и П.С. Романов, выступили с критикой процесса раскрепощения женщины в рамках борьбы за новый быт. Как отмечала О.М. Здравомыслова, после революции 1917 г. «важнейшим условием освобождения женщины объявлялось освобождение ее от быта путем ликвидации сферы частной жизни и семьи как источника социального неравенства» [Здравомыслова 2010, 173]. Малашкин, Гумилевский, Романов стремились к документальности повествования: в «Собачьем переулке» рассказ ведется от лица героя, который хочет представить «объективную» картину событий, основываясь на материалах уголовного дела, заметок в газетах и т.п.; в «Луне с правой стороны», помимо всего прочего, в текст вплетены эго-документы, дневник Тани Аристарховой; а рассказ «Без черемухи» построен как исповедальное письмо героини подруге Веруше. Авторы намеренно сочетали в произведениях окарикатуренные «модернистские» клише, беря за основу известные женские типажи, вроде трагической женщины, женщины-самозванки, аморальной женщины [Калачина 2010, 16-17], с обличением простоты половых нравов, принесенной процессом борьбы за новый быт. Раскрепощение женщины, как хотели показать авторы, не способствует ее освобождению, оно множит разврат не только в молодежной среде, но и в обществе. Упрощенный физиологический подход к любви, по мысли авторов, привел общество к катастрофе, что подтверждается современными исследованиями. Как отмечает
Н.В. Корниенко, итоги «освобождения пролетариата» были плачевными: «Государственная кампания пропаганды “свободной любви” и “товарищества” обернулась крайним неблагополучием целых губерний - “в смысле широкого распространения сифилиса”; города и деревни советской России захватили невиданные волны хулиганства и преступности» [Корниенко 2010, 31]. Власть не хотела признавать своих ошибок, поэтому главными виновниками распространения «новобуржуазных» настроений объявили... литераторов, в частности уже покойного Сергея Есенина как основателя целого «упадочного» направления - «есенинщины»: «“Есенинщину” искали и находили у пролетарских и крестьянских поэтов, перевальцев, поэтов-комсомольцев. На “замусоленные старенькие традиции” указывалось только еще вступавшим в литературу обэриутам» [Корниенко 2010, 30].
В глазах критики подверженными влиянию «есенинщины» оказались Малашкин, Гумилевский и Романов. На произведения писателей повесили ярлык «порнографических». Обрисованные в их текстах свободные отношения не удовлетворили критиков: писателей окрестили последователями новобуржуазного течения в советской литературе, представителями бульварной беллетристики, которые занимаются обслуживанием крестьянина и отсталого пролетария, а также обвинили в сочувствии пораженческим настроениям молодых рабочих [Майзель 1929, 66]. Произведения этих авторов считались упадочническими, второсортными, клеветническими, далекими от реальности. Тем не менее поднятая вокруг писателей шумиха способствовала рекламе их произведений. В. Кетлинская сетовала, что благодаря произведениям Романова, Гумилевского, Малашкина «помыслы, желания молодежи приковываются к вопросам половой жизни во всех ее проявлениях» [Кетлинская 1929, 24].
Сочинения Малашкина, Гумилевского и Романова прошли бы без особого внимания «неистовых ревнителей» (С.И. Шешуков), поскольку на тот момент существовала обширная научная и художественная литература на тему «полового вопроса», но тот факт, что выход (а в случае с «Без черемухи» - переиздание) текстов совпал с десятой годовщиной революции (1927 г.) сыграл решающую роль в стигматизации произведений означенных авторов. Как писал один из критиков, юбилей Октября ознаменовался гипертрофией внимания, «которое литература стала уделять так называемой половой проблеме» [Коган 1927, ИЗ]. В большинстве негативных откликов Малашкина, Гумилевского и Романова поминали неотделимо друг от друга потому только, что выход их произведений пришелся на юбилей революции. Критики рассматривали их как клеветников, которые неверно оценили достижения советской власти за 10-летний период. И. Бобрышев упрекал авторов в отсутствии трезвой действительной оценки молодежи [Бобрышев 1928, 121]. Как отмечала ГА. Белая, такое отторжение критиков, формировавших представление о литературном процессе, от «конъюнктурных», «мещанских»,
«приспособленческих» произведений свидетельствовало «о глубоких противоречиях общества» [Белая 1993, 8].
Малашкина, Гумилевского и Романова обвинили не только в увлечении «фривольными» темами и неверной оценке революции, но и, что более существенно, в намеренном искажении действительности при передаче общественных процессов, в гротескном описании человеческих характеров, в конструировании реальности вместо ее анализа. Ссылками на существующие в действительности типы Малашкин, Гумилевский и Романов, по мнению критики, создавали паттерны поведения, подчеркивали массовость сексуального раскрепощения, побуждали неокрепшую молодежь к подражанию героям и воспроизведению определенных сцен из произведений. В этом заключалась главная опасность этих авторов. «Перед нами не просто книжки, рисующие запретную, щекотливую и волнующую область сексуальных переживаний, - молодежь воспринимает эту литературу как правду о себе, как попытку писателей раскрыть ее, молодежи, духовный лик. И надо ли говорить, как эта беллетристика бьет по лицу чистую, неразложившуюся часть молодежи» [Полонский 1928, 196].
В отличие от ходульных мужских персонажей, с их «трезвой» оценкой действительности [Бобрышев 1928, 115], героини женского пола прописаны более изобретательно. Одним из паттернов поведения, который, по мнению критики, конструировали авторы, было мещанское отношение женщины к любви (понимаемой как томные разговоры и сентиментальные вздохи «воркующей парочки» [Бобрышев 1928, 113]). В этом отметился П. Романов в рассказе «Без черемухи». Его героиня - романтически настроенная студентка Московского университета, которая в письме подруге рассказывает о своем первом сексуальном опыте, называя его в терминах XIX в. «падением» - болезненно переживает «упрощенчество» во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. В рассказе показана эволюция традиции любовных отношений, где «лирическое» понимание любовного чувства подменяется утилитарной его трактовкой: «Любви у нас нет, у нас есть только половые отношения, потому что любовь презрительно относится у нас к области “психологии”, а право на существование у нас имеет только одна физиология» [Романов 1990, 315]. «Бесстыдная» откровенность произошедшего полового акта, по мнению главной героини, связана с общепринятыми нормами университетской среды. Воспринимая себя как «солдат революции», студенты и студентки культивируют попрание всяких сдерживающих правил, свободу, не требующую никакой работы над собой. Казарменные порядки, грубость в общении друг с другом являются, по мысли героини, боязнью «проявления всякой человеческой нежности, чуткости и бережного отношения к своей подруге-женщине или девушке» [Романов 1990, 313-314].
Вяч. Полонский отмечал, что, берясь за рассказы, касающиеся «проблемы пола», П. Романов дает «бытовые зарисовки», дистанцируясь от подведения «моральных» итогов, предлагая читателю самостоятельно
дать какие-либо оценки [Полонский 1928, 192-193]. Тем не менее явно отрицательное отношение писателя к непривлекательной грубости распустившегося пролетария подтверждается в повествовании описанием поведения героя по отношению к рассказчице. Нивелируя традиционное понимание отношений, эту «канитель», «китайские церемонии», персонаж повести пытается противопоставить им модную теорию и практику взаимоотношения полов: поскольку любовь считается в комсомольской среде «штукой буржуазной», то путь, по которому должны пойти прогрессивные «рыцари революции» - это подсказанный природой путь удовлетворения полового влечения.
Романов подчеркивает нечеловеческий характер такой любви: в ней отсутствует нежность и ласка, все происходит с какой-то звериной быстротой, без чувства родства и единения: «Я стояла, не обертываясь, и с замиранием сердца ждала, что он поцелует меня сзади в шею или в плечо. Но он не поцеловал, а, подойдя, еще настойчивее и нетерпеливее тянул меня от окна» [Романов 1990, 321-322]. Его героиня - носительница других представлений о взаимоотношениях мужчины и женщины, для нее характерна склонность к жертвенной любви. Недаром она хочет спасти запутавшегося пролетария, «повлиять на него в хорошую сторону», но это приводит к плачевному результату.
Контраст между главной героиней и ее насильником подчеркивается в композиции рассказа системой противопоставлений. В начале произведения описана разница между видимым благообразием фасадов домов города и внутренним беспорядком в комнатах их жильцов. За этим следуетрассуждение о противоречивой психологической жизни обитателей этих домов: «В нашей внутренней жизни, внутри этих очищенных нашей властью стен, у нас царит грязь и беспорядок» [Романов 1990, 313]. Рассказчица с удивлением отмечает, что в образе ее сексуального партнера присутствуют как бы два человека [Романов 1990, 315]. Однако, в себе самой она не замечает подобной раздвоенности. Она уверяет подругу, что «далека от сожаления о потерянной невинности», но при этом все повествование подтверждает мысль, высказанную в начале рассказа: «Грустно, больно, точно я что-то единственное в жизни сделала совсем не так» [Романов 1990, 311]. Удивляет рассказчицу и температурный контраст между подъездом, в котором живет ее насильник, и теплотой дня: «Я вошла в темный подъезд старого каменного дома, откуда пахнуло, после теплого, точно гретого воздуха майской ночи, еще зимним холодом непрогревшихся стен» [Романов 1990, 318]. «Майская» теплота чувств героини, которая полагает, что первая любовь должна быть праздником, в сцене прелюдии сталкивается с «зимней» холодностью, рассудочностью, нежеланием «антиномию разводить» у ее партнера, комната которого «имела одинаковый характер» с подъездом.
Иной паттерн - развратной женщины, нигилистически настроенной к любовным взаимоотношениям, - описывает Сергей Малашкин в повести «Луна с правой стороны». Таня Аристархова - дочь кулака (зажиточного крестьянина - представителя чуждого пролетариату класса) приезжает в Москву и превращается из деревенской девушки в «самодовольную самочку» (Полонский) под воздействием разлагающей среды «уродливых явлений» в семье молодежи [Театр московского пролетариата 1934, 59].
Классовая принадлежность героини - свидетельство ее политической и моральной неблагонадежности. Как дочь кулака, Таня является носительницей разлагающих пролетариат ценностей, что и доказывается ее попытками соблазнить рабочего-коммуниста Петра «не в духе стыдливого морализаторства, но в полном соответствии с эротизмом модерна начала века» [Нижник 2017, 15], черты которого, однако, Малашкин превращает в карикатуру.
Общество, в котором оказалась Таня Аристархова, отстаивает примат чувственной любви над всеми другими ее видами. Газовые платья, курение анаши разжигают низменные сексуальные желания, следствием чего становятся «афинские ночи» (оргии) и частая смена половых партнеров (Таня - «жена» двадцати двух мужей). Идеология этого сообщества также представляет собой упрощенный подход к вопросам любви. По этому поводу Вяч. Полонский отмечал, что «просто невыносимо порой читать тупую, пошлую и совершенно дурацкую ахинею, с помощью которой жеребчики “теоретически” обосновывают свое “право на похоть”» [Полонский 1928, 202]. Эротическое воображение теоретиков, подобных Исайке Чужачку из «Луны с правой стороны», превращают женщину из «матери, любовницы и товарища - в кусок мяса, в похотливое грязное животное» [Полонский 1928, 204].
Для характеристики героини из развращенной среды Малашкин пользуется масками русского модернизма - «старой» «декадентской» литературы [Нижник 2017, 4-21]. Автор «Луны с правой стороны» конструирует образ нигилистически настроенной роковой женщины, для которой чувственная любовь стоит выше любви-жертвенности. Но демонизм этой женщины также оказывается карикатурным, как и среда, ее породившая. Девизом героини является единственная строчка, запомнившаяся ей из томика А.А. Блока, лежащего на прикроватном столике, - из стихотворения «Весенний день прошел без дела...» (1909): «Мне кажется, что жизнь моя прошумела и ушла. <...> Это сказал какой-то поэт, а какой - я совершенно не помню и не знаю. Разве неправда, как хорошо: “жизнь прошумела и ушла”» [Маруся отравилась 2019, 187]. Опустошенная, сгоревшая в пламени разврата Таня не уповает на возрождение. Она довольствуется спокойной жизнью в «грязном болоте» и «заражает смердящий воздух» трупным запахом своего разложения. Главный ее козырь в деле «заражения» похотью - это обнажение. Вся глава «Тринадцатая ночь» построена из картин «игры прелестями», которым с трудом противостоит Петр.
Тему развращенного влияния среды на отдельного человека развивает в романе «Собачий переулок» Лев Гумилевский. С первых страниц романа мотив биологической обусловленности человеческих взаимоотношений
(героиня Вера Волкова - студентка медицинского института) определяет развитие фабулы: желание интимного удовлетворения толкает Хорохорина, героя «Собачьего переулка», на необдуманные действия, которые в конце приведут к трагической развязке.
Гумилевский в конструировании фемининности главной героини также обращается к литературной традиции, использует сказочные и фольклорные мотивы. Это выводит текст за рамки сугубо идеологической полемики. Писатель изображает передовую женщину своего времени -независимую и раскрепощенную, но это достигается за счет ее колдовской привлекательности - акцент делается на ирреальности влечения, мистической притягательности героини. В тексте часто подчеркивается демоническая сущность героини, она постоянно хохочет, улыбается, усмехается. Акцентируется мотив оборотничества, связанный с фамилией героини - Волкова. В ее облике проступают звериные черты. Хорохорин не может разглядеть ее лицо, спрятанное в «груде меха шубы», руки Веры сравниваются с лапами животного, взгляд зеленых глаз как будто заключает героя в паутину: «Она проворно обернулась к нему и облила его странным взглядом зеленых глаз - он обволакивал его, как паутина» [Собачий переулок 1993, 17].
Место, где Вера обнажает иную, скрытую свою сущность, фольклорно мотивировано. Как отмечает Ю.В. Литвинова, «попасть сюда можно, пройдя через пространства, отмеченные обрядовой символикой: третий дом, третий этаж, чулан в стене. Автор создает образ снежной завесы, снежной пелены этого “рокового” вечера. Также в романе присутствует временная зеркальность: начало действия отмечено девятью часами» [Литвинова 2017, 54]. Помимо мотива оборотничества в романе возникает образ змеи, с которым традиционно соотносятся понятия о порочности, греховности, похоти. Более подробно литературные и фольклорные претексты романа Гумилевского описаны в названной нами работе Ю.В. Литвиновой.
Вера Волкова нужна Гумилевскому для демонстрации слабости человеческой природы. Студенчество и комсомольцы, которые стремятся пойти по альтернативному пути, неизбежно сталкиваются с проблемами, которые не поддаются логическому объяснению. Желая стать «выше человеческой природы», они продолжают оставаться людьми, над которыми тяготит «половое проклятье» (этим мучаются Хорохорин, приват-доцент Буров, Зоя Осокина, Анна Рыжинская и др.).
Название романа Гумилевского отсылает не только к механической случке двух животных, движимых инстинктом размножения, но и к собачьей преданности, когда людьми не руководит только страсть или рабское поклонение. Писатель отказывается считать половое влечение проклятием. В его системе координат это основа жизни, которую комсомольцы почему-то окрестили порочной. Недаром отягощенные «половым проклятием» Буров и Хорохорин объявляют систему Фрейда ошибочной, а рефлексологию Павлова необходимой, поскольку благодаря ей можно контролировать телесные процессы. Бесплотность подобного рода суждений показывает столкновение героев с Верой Волковой, нечеловеческому магнетизму которой оба не могут противостоять.
Как видно из проведенного анализа, Малашкин, Гумилевский и Романов не стремились, как полагала критика, к искажению действительности при передаче общественных процессов. Беря за основу модернистские клише, они в карикатурном виде представляли нравы советской молодежи, указывая тем самым на политические ошибки в радикальном, с точки зрения морали, переходе от пуританских нравов царской России к авангардным, прогрессивным действиям советских властителей. В этом смысле авторы конструировали образ раскрепощенной женщины, чтобы показать, что такой тип не может иметь место среди грядущего поколения граждан новой страны, его влияние негативно скажется не духовном и физическом здоровье молодежи. Не ради «эротомании», в которой авторов упрекали критики, а для демонстрации губительного влияния политики борьбы за новый быт Малашкин, Гумилевский и Романов обратились к «фривольной» проблеме пола. Они полагали, что «большой скачок» в процессе изменения взаимоотношений между мужчиной и женщиной не привел к должному результату. Авторы продемонстрировали, что в первую очередь «акушерский характер» любви, о котором еще в 1925 г. говорил Луначарский в докладе «Мораль с марксистской точки зрения» [Луначарский 1925,42-43], девальвирует взаимоотношения между полами, обесценивает их смысл, который не сводится к сугубо биологическому. Какими бы прогрессивными ни были положения политики борьбы за новый быт, они оказали разлагающее воздействие на среду советской молодежи, в особенности на поведение женщины, которая, несмотря на авангардный характер законопроектов советской власти, уравнивавших ее в правах с мужчиной, продолжала быть основой сохранения семейственности в отношениях, исключая их сугубо функциональный характер.
В следующих работах мы будем развивать намеченные нами линии конструирования образа раскрепощенной женщины и подробнее остановимся на подобных образах в контексте творчества каждого из выбранных авторов.
Список литературы Конструирование образа раскрепощенной женщины в рамках политики борьбы за новый быт 1920-х гг. (Малашкин, Гумилевский, Романов). Часть 1
- Белая Г. А. О «незамеченной» литературе // Собачий переулок: Романы и повесть. М., 1993. С. 3-8.
- Благой Д.Д. От Кантемира до наших дней. Т. 1. М., 1979.
- Бобрышев И. Мелкобуржуазные влияния среди молодежи. М.; Л., 1928.
- Здравомыслова О.М. Феминизм // Новая философская энциклопедия: в 4 т. Т. 4. М., 2010. С. 171-173.
- Зусева-Озкан В.Б. Маскулинность и феминность в литературе русского модернизма: случаи Блока и Цветаевой // Вестник Томского государственного университета. 2019. № 448. С. 30-34.
- Ильинский И. Новый закон о семье и браке // Новый мир. 1927. № 2. С. 149-150.
- Калачина Л.В. Феномен женской маски в культурно-художественном пространстве Серебряного века: автореферат дис. ... канд. культурологии: 24.00.01. Саранск, 2010.
- Кетлинская В.К. Жизнь без контроля (половая жизнь и семья рабочей молодежи). М.; Л., 1929.
- Коган П.С. Литература великого десятилетия. М.; Л., 1927.
- Корниенко Н.В. Крестьянский вопрос в литературно-критических полемиках «нэпповской оттепели» // В поисках новой идеологии: Социокультурные аспекты русского литературного процесса 1920-1930-х годов. Отв. ред. О.А. Казнина. М., 2010. С. 3-59.
- Литвинова Ю.В. Историко-литературный комментарий к романам Л.И. Гумилевского «Ткачи», «Чужое имя», «Собачий переулок». Выпускная квалификационная работа на соискание степени магистра филологии. СПб., 2017. URL: https://nauchkor.ru/pubs/istoriko-literatumyy-kommentariy-k-romanam-l-i-gumilevskogo-tkachi-chuzhoe-imya-sobachiy-pereulok-5a6f88197966e12684ee9f8f (дата обращения 11.10.2019).
- Луначарский А.В. Мораль с марксистской точки зрения. Севастополь, 1925.
- Майзель М. Новобуржуазное течение в советской литературе. Л., 1929.
- Малыгина Н.М. Андрей Платонов и литературная Москва: А.К. Воронский,
- A.М. Горький, Б.А. Пильняк, Б.Л. Пастернак, Артем Веселый, С.Ф. Буданцев,
- B.С. Гроссман. М.; СПб., 2018.
- Маруся отравилась: секс и смерть в 1920-е: антология. / Сост. Д.Л. Быков. М., 2019.
- Михайловский И.О. «Арцыбашевщина» и социально-культурный контекст // Политическая лингвистика. 2011. № 3. С. 236-240.
- Московская Д.С. Биография местности в русской литературе эпохи борьбы за новый быт // В поисках новой идеологии: Социокультурные аспекты русского литературного процесса 1920-1930-х годов. М., 2010. С. 60-154.
- Нижник А. Предисловие // Малашкин С. Луна с правой стороны или необыкновенная любовь. М., 2017. С. 4-21.
- Овчаренко А.Ю. Стратегии художественного выбора в творчестве Содружества «Перевал» в историко-литературном контексте 1920-1930 годов: дис. ... д-ра филол. н.: 10.01.01. М., 2019.
- Полонский В.В. Между традицией и модернизмом. Русская литература рубежа XIX-XX веков: история, поэтика, контекст. М., 2011.
- Полонский В.П. О современной литературе. М.; Л., 1928.
- Радин Е.П. Проблема пола в современной литературе и больные нервы. СПб., 1910.
- Романов П.С. Без черемухи. / Сост., предисл. и прим. С.С. Никоненко. М., 1990.
- Собачий переулок: Романы и повесть. М., 1993.
- Театр московского пролетариата. М., 1934.
- Шешуков С.И. Неистовые ревнители: Из истории литературной борьбы 20-х годов. М., 1984.