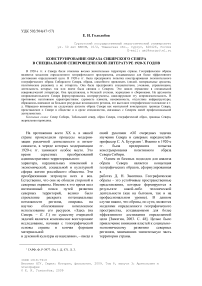Конструирование образа Сибирского Севера в специальной североведческой литературе 1920-х годов
Автор: Гололобов Евгений Ильич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Этнография народов Сибири
Статья в выпуске: 3 т.8, 2009 года.
Бесплатный доступ
В 1920-е гг. к Северу были отнесены весьма значительные территории страны. Географические образы являются моделями определенного географического пространства, создаваемыми для более эффективного достижения определенной цели. В 1920-е гг. была предпринята попытка конструирования положительного географического образа Сибирского Севера, образа, способного привлекать (людей, материальные средства, политические решения), а не отторгать. Она была предпринята специалистами, учеными, управленцами, деятельность которых так или иначе была связана с Севером. Это нашло отражение в специальной североведческой литературе. Она представлена, в большей степени, журналами и сборниками. На аргументы непривлекательности Севера формулировались контраргументы, нивелирующие эту непривлекательность. В противовес негативным характеристикам: суровость климата, неосвоенность, отсутствие инфраструктуры, обращалось внимание на большие ресурсные возможности региона, его выгодное географическое положение и т. д. Обращено внимание на следующие аспекты образа Севера как ментальной конструкции: границы Севера, представление о Севере в обществе и в среде специалистов, связанных с Севером своей профессиональной деятельностью.
Север сибири, тобольский север, образ севера, географический образ, границы севера, журнальная периодика
Короткий адрес: https://sciup.org/14737093
IDR: 14737093 | УДК: 502/504(47+57)
Текст научной статьи Конструирование образа Сибирского Севера в специальной североведческой литературе 1920-х годов
На протяжении всего XX в. в нашей стране происходили процессы модернизации различной длительности и интенсивности, в череде которых модернизации 1920-х гг. занимают особое место. Это время серьезных преобразований административно-территориального характера, кардинальных изменений в экономической, социальной и культурной сферах жизни российского общества. Эти преобразования затронули всех и вся. Естественно, что они не обошли стороной и северные окраины. Именно в это время шел интенсивный поиск путей развития северных территорий, велико было стремление раскрыть потенциальные возможности региона, опираясь на научно обоснованное комплексное использование его ресурсов. «Здесь (на Севере. – Е. Г.) по существу очередной задачей является комплексное всестороннее исследование, начиная с топографической основы страны и кончая формами материальной и духовной культуры ее населения», – писал в своей рукописи «Об очередных задачах изучения Севера и северных народностей» профессор С. А. Бутурлин 1. Именно в 1920-е гг. была предпринята попытка конструирования позитивного образа Севера Сибири.
Одним из базовых подходов для анализа образа Севера является концепция географических образов, сформулированная в работах Д. Н. Замятина. Географические образы – это устойчивые пространственные представления, которые формируются в результате какой-либо человеческой деятельности (как на бытовом, так и на профессиональном уровне). В данном случае важно, что образы, по сути, являются моделями определенного географического пространства, создаваемыми для более эффективного достижения определенной цели [Замятин, 2003. С. 48]. Целью было привлечение внимания властей к социальноэкономическому развитию северных регионов, занимавших значительную часть территории страны.
Создание географических образов связано с процессами формализации, концентрации определенных географических представлений, т. е. географический образ – это совокупность ярких, характерных символов, ключевых представлений, описывающих какие-либо реальные пространства. Ключевые представления относительно Севера были следующими: неосвоенность, неизученность, крайне малая населенность, вымирание малых народов Севера, суровые природно-климатические условия, исключающие ведение зернового хозяйства (вечная мерзлота, суровая зима, непродолжительное лето и т. п.). Такие характеристики на протяжении столетий формировали определенный географический, точнее историко-географический, образ
Сибирского Севера.
Одно из ведущих мест в формировании образа сибирского Севера принадлежит суровым природно-климатическим условиям, в частности низкой температуре, «при которой стеариновая свечка выгорает трубочкой вокруг фитиля и пламя не в силах растопить наружного слоя стеарина», когда на морозе «остываешь чрезвычайно скоро и надолго, даже глазное яблоко холодеет» [Бутурлин, 1929. С. 35].
Следующей специфической чертой Севера была его слабая заселенность, усиливающая ощущение неосвоенности, необжитости. Необозримые пространства Сибири вообще и Севера, где «...люди терялись в суровом краю. Одинокие, на сотни верст разбросанные фактории и шесть сотых человека на квадратный километр» 2, делали образ региона подчеркнуто безлюдным, пустынным и, следовательно, диким. Представление это в обыденном сознании, и не только, было весьма устойчивым. «По ту сторону Урала (Европейская Россия. – Е. Г.) еще слишком прочно держится представление о Сибири, как о бесконечной дремучей тайге, стране лесов, снегов и медведей. Даже проведение великого железного пути, прочно связавшего интересы провинции и метрополии и вовлекшего старую патриархальную Сибирь в оборот мирового хозяйства, даже крупнейшие события последнего времени и ряд сибирских реформ, в числе которых главнейшее место занимает открытие Сибири для колонизации, не освободили метрополию от старых взглядов на уже новую Сибирь» [Строгий, 1911. С. 3].
В конце XIX – начале XX в. в обыденном сознании сложился образ вымирающих народов Севера, не выдерживающих натиска «цивилизации», выразившейся в «форме спирта, сифилиса и торгового обмана». Эти представления были достаточно широко распространены в обществе и в органах власти. Меры, принимавшиеся правительством, не считались достаточными. Все это формировало образ ограбленного региона, в первую очередь его населения и ресурсов.
Все, кто так или иначе был связан с Севером, писали о нем, отмечали большие потенциальные возможности северных территорий, связанные с богатой ресурсной обеспеченностью региона. «Север наш со своими богатствами, как сказочный богатырь ждет странника с живой водой, чтобы воспрянуть во всей своей мощи и значении». С. Швецов писал о Сургутском крае: «...дикая могучая природа заключает в себе неисчерпаемые богатства, только как бы нарочно, для лучшего охранения своих сокровищ от жадности человека, она приняла суровые неприступные формы» [Швецов, 1888. С. 3].
Для описания природных богатств Севера, Сибири в целом, их потенциальных возможностей характерна превосходная степень. «Тобольский север заключает в себе громадные природные богатства… Необъятные пространства тундр дают богатые оленные пастбища… Леса, представляя огромную ценность сами по себе, являются в то же время питомником и хранителем пушного зверя и лесной птицы, и, кроме того, дают населению побочное, вспомогательное средство к существованию в виде кедрового промысла и заготовки дров. Громадные водные бассейны содержат колоссальные запасы ценной рыбы, и, кроме того, привлекают несметное количество водяной птицы» [Дунин-Горкавич, 1994. С. 12].
Пальму первенства в формировании социально-географического образа Севера Сибири как сказочно богатого места по праву принадлежит пушнине. В конце XVI – XVII в. царская казна не испытывала недостатка в мехах, которые в подавляющем большинстве имели сибирское происхождение. Разместить их в полном объеме на внешних рынках того времени не представлялось возможным. Мехами выплачивалось содержание почти всем посольствам за границу, нередко ими же выплачивалось жалование служилым людям внутри страны, мехами одаривали иностранных гостей и дворянскую знать. Это находило свое отражение в летописях, приобретая легендарный характер, исторических сочинениях, публицистике, специализированных работах, художественной литературе, что, с одной стороны, свидетельствовало о колоссальных ресурсных возможностях региона, с другой – хищническом, бесконтрольном их использовании.
Эти ключевые представления были использованы Советской властью для демонстрации радикального разрыва с прошлым и провозглашения новой политики по отношению к Северу и его коренному населению. На протяжении столетий Тобольский Север представлял собой пример систематического «ограбления природы», «...триста лет из него выкачивались богатства в виде мехов, дичи, рыбы и т. п.» 3. Взамен Север не получал ничего. Представители новой власти заявляли, что этот «трехсотлетний период безудержной эксплуатации Севера» закончился 4. Декларировалось, что освоение региона должно строиться на рациональном использовании природных ресурсов.
Интересным источником по рассматриваемой проблеме являются специализированные журналы: «Охрана природы», «Пушное хозяйство», «Северная Азия», «Хозяйство Урала», «Уральский охотник», «Наш край», «Тобольский край». Сфера их интересов, редакционная политика определялись ведомственной принадлежностью.
Журнал «Пушное дело», являясь печатным органов Наркомата внутренней торговли, ставил своей задачей быть органом, освещающим работу разных ведомств, объединяющим в меру своих возможностей научные круги, работающие в области пушного дела, а также заготовительные организации и объединения, имеющие отношение к охотничьему хозяйству, и, в частности, к пушному делу. Материалы журнала дают массу интересных обобщенных материалов по развитию пушного промысла в стране в 1920-е гг., позволяющие определить место Сибирского Севера в добыче пушнины. Подчеркивалась важность пушного промысла для хозяйства страны в целом, и соответственно акцентировалось внимание на экономической значимости региона.
Журнал «Северная Азия» с 1925 по 1930 г. издавался Обществом изучения Урала, Сибири и Дальнего Востока совместно с Главнаукой и Комитетом содействия народностям северных окраин (Комитетом Севера) при Президиуме ВЦИК. Он освещал широкий круг вопросов, касающихся северных территорий СССР, в том числе, естественно, вопросов связанных с промысловой деятельностью населения, освоением природных ресурсов северных территорий, будущим комплексным развитие Сибирского Севера [Здобнов, 1931].
Издававшийся облисполкомом с 1925 по 1935 г. ежемесячный журнал «Хозяйство Урала» стал проводником идей создания плановой социалистической экономики в Уральской области. Этот журнал являлся руководящим областным органом по хозяйственным вопросам. На страницах издания обсуждались актуальные вопросы экономического развития области и отдельных ее регионов, в том числе и Тобольского Севера. Опубликованные в журнале материалы дают представление о том, какая информация о северных территориях доходила до областных властей, какие перспективы в освоении региона виделись в центре и на местах [Кошелев, 1925.; Подбельский, 1927; Федоров, 1928]. В журнале рассматривались также проблемы традиционных отраслей северного хозяйства и пути его модернизации [Евладов, 1927; Благоволин, 1927; Друганов, 1929].
Журнал «Уральский охотник» являлся печатным органом Уральского областного союза охотников. Главными задачами для него были популяризация знаний, позволяющих охотнику рационально организовать свой промысел, соблюдая природоохранное законодательство, и эффективно сбывать охотничью продукцию через ко-операцию, минуя «хищника-скупщика» пушнины.
На страницах журнала обсуждались самые животрепещущие вопросы охотничьего промысла: сокращение численности пушных животных, нормативная база, регулирующая охоту, рационализация техники добычи пушнины, научные исследования, экономические вопросы промысла и многое иное [Рахманин, 1924. С. 5–9; Генерозов, 1924. С. 8].
Интересные материалы историко-экологического характера публиковались в журналах «Наш край», «Тобольский край». На страницах этих журналов рассматривались вопросы хозяйственной деятельности: использование природных ресурсов, состояние промыслов и т. д. Социально-экономи-ческие проблемы Севера обсуждались на всесоюзной конференции, выходили специальные издания о Сибирском Севере, ориентированные на широкий круг читателей. Во всех этих изданиях говорилось о том, что на Север надо обратить внимание, он должен стать объектом целенаправленной государственной политики [Дунин-Горкавич, 1925; Бутурлин, 1926; Попов, 1927; Емельянов, 1927].
Рациональное использование практически «неисчерпаемых» ресурсов сибирского Севера, с точки зрения специалистов, делало его регионом будущего.
Как и в предшествующие периоды, в 1920-е гг. главную роль в этом отношении играла пушнина. Это было связано с благоприятной конъюнктурой на пушнину на мировых рынках. «Мягкое золото» была важнейшим экспортным товаром СССР. Привлекательность Севера и в дальнейшем связывалась с его ресурсами, пушными, рыбными, с большими запасами древесины. В 1920-е гг. на Север приходилось 78 % лесной площади Союза. По данным Наркомлеса, сырьевые ресурсы северных лесов по спелым и переспелым насаждениям составляли 80 % всех запасов лесов в стране [Славин, 1933. С. 17].
В противовес бездорожности, в рассматриваемый период активно формировался образ Севера как важнейшего региона для развития путей сообщения. «Взгляда на глобус достаточно, чтобы видеть, что центр земных масс, а в особенности центр густонаселенных и культурных стран мира близок к арктическому поясу. Видно также, что кратчайшие расстояния между крупнейшими центрами атлантических и тихоокеанских стран ведут через северные полярные и приполярные области» [Бутурлин, 1929. С. 62].
Из Лондона или Ливерпуля до Токио или Иокогамы через Северо-Американские железные дороги пути почти 16 тыс. км, через Сибирскую железную дорогу около 13 тыс. км, а через полярные области примерно 8–10 тыс. км. Так формировался образ северного морского пути как кратчайшего пути из Европы в Азию.
Одно из центральных мест в конструировании положительного образа Севера занимали коренные народы региона. Отмечалось, что они создали самобытную, самоценную культуру, достижения которой необходимо использовать в современном обществе, особенно, при дальнейшем освоении Севера. «Что может быть удобнее в условиях Севера туземной ровдужной одежды для лета и меховой оленьей для зимы… Как превосходно приспособлены легкие, упругие, несокрушимые нарты северян к бездорожной езде по кочкам, кустам и речным торосам», отмечал известный знаток Севера С. А. Бутурлин 5. Малые народы Севера – это «герои, стоящие на самом опасном фронте человечества» [Налимов, 1928. С. 20–21]. Фронт этот – необозримые северные пространства, богатые различными ресурсами.
Именно малые народы Севера должны были стать основной производительной силой, способной обеспечить продвижение общества, его экономики на Север, дать возможность «в будущем использовать разнообразнейшие богатства, которыми так изобилуют северные области нашего материка». Подчеркивалось, что северные народы «не являются ныне объектом для эксплуатации или в лучшем случае клиентами совершенно недостаточного государственного патроната. Туземцы Севера признаются добытчиками весьма ценных и необходимых для Союза товаров, которым государство должно помочь встать на ноги, окрепнуть и всемерно развить свою самостоятельность» [Логанов, 1927. С. 103].
Как уже отмечалось, конструирование «положительного» образа Севера связывалось с соответствующей государственной политикой. «Возможности севера огромны и будущее его блестяще. Но чтобы пробудить его к жизни, надо сделать для него, хотя малую долю того, что в течение тысячелетий делалось для умеренных широт, в смысле вложения научного знания и кристаллизированного разумного труда. Надо не только жать, но и сеять. Не только сеять, но и удобрять почву», – отмечал Бутурлин в одной из своих работ, ориентированной на широкий круг читателей (цит. по: [Логанов, 1927. С. 103]).
Таким образом, была предпринята попытка замещения старого образа Севера, ключевыми характеристиками которого были суровые природно-климатические условия, во многом экстремальные, громадные пространства, неразвитая транспортная инфраструктура, малочисленное вымирающее население, другим, новым «положительным» образом Севера с акцентом на его потенциальные экономические возможности, выгодное географическое положение, адаптированное к суровым природно-кли-матическим условиям коренное население, способное к саморазвитию, комплексное научное изучение региона.
Попытка сформировать более динамичный, «прогрессивный» образ севера Сибири, имевшая место в 1920-е гг. не увенчалась успехом. Очевидно, это было связано с тем, что перспективы экономического освоения Обь-Иртышского Севера требовали разработки и реализации модели сбалансированного развития северных территорий. Это обстоятельство делало необходимым осуществление крупных инвестиционных проектов, продолжения комплексных научных исследований региона, совершенствования природоохранного законодательства. Однако освоение Севера пошло по другому пути – пути максимального выкачивания материальных ресурсов с широким применением подневольного труда.
CONSTRUCTING THE IMAGE OF SIBERIAN NORTH
IN SPECIALIZED LITERATURE ON THE NORTH GEOGRAPHY OF 1920-S