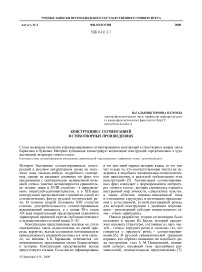Конструкции с сегментацией в стихотворных произведениях
Автор: Патроева Наталья Викторовна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 2 (93), 2008 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена типологии и функционированию сегментированных конструкций в стихотворных жанрах эпохи Карамзина и Пушкина. Материал публикации демонстрирует активизацию конструкций «представления» в художественной литературе «нового слога».
Сегментированные конструкции, именительный "представления", инфинитив "темы", поэтическая речь
Короткий адрес: https://sciup.org/14749422
IDR: 14749422 | УДК: 8.411.2-7
Текст научной статьи Конструкции с сегментацией в стихотворных произведениях
История бытования сегментированных конструкций в русском литературном языке не получила пока сколько-нибудь подробного освещения, однако не вызывает сомнения тот факт, что предложения с синтаксически независимой позицией «темы» заметно активизируются сравнительно поздно, лишь в XVIII столетии – в произведениях писателей-сентименталистов, а в XIX веке конструкции представления становятся одной из стилистических фигур русской поэтической речи. В течение второй половины XIX столетия степень употребительно сти сегментированных высказываний снижается, а с конца 50-х годов ХХ века именительный представления становится характерной приметой газетно-публицистического и художественного стилей языка [1–4].
Конструкции представления, которые не столь синтаксичны, сколь психологичны по своей природе, вероятно, всегда составляли потенциальную принадлежность языковой системы и в этом смысле, по мнению З. К. Тарланова, отличаются «от номинативного предложения своим безразличием к истории. Конструкции представления всегда присутствуют в языке. Если они не зафиксированы в тот или иной период истории языка, то это значит только то, что соответствующие тексты не нуждались в подобном эмоционально-психологическом наполнении, в реальной мобилизации этих конструкций» [5]. Активизация сегментированных фраз совпадает с формированием литературы «нового слога», которая стремилась отразить внутренний мир личности, «диалектику чувств», а также сблизить книжно-письменный язык в отношении структуры и интонации предложения с естественной, устной разговорной речью, для которой конструкции с двойным подлежащим – разговорный субстрат именительного темы – очень характерны.
Начало разработке теории сегментации было положено в трудах Ш. Балли, который предложил называть структуры, состоящие из двух частей – «темы» (предмет речи) и «повода» (то, что говорится о предмете речи), – сегментированными [6]. В русской грамматической традиции первым, кто обратил внимание на подобного рода построения, стал А. М. Пешковский, назвавший сегмент, вводящий тему дальнейших размышлений, «именительным представления» [7].
Однако вплоть до 1960-х годов, когда активизируется интерес лингвистов к синтаксису разговорной речи и экспрессивным ресурсам грамматики, сегментированные конструкции не попадали в центр языковедческих поисков.
Конструкции с сегментацией интонационно и синтаксически членятся на два отрезка: «тема», открывающая предложение, и следующая за ней часть, содержащая анафорическое, коррелирующее с именем – сегментом, местоимение. Это построение с так называемой «репризой» оказывается зеркальным отражением структуры с «антиципацией» («местоимение + раскрывающее его значение обособленное приложение»). Сегменты могут отделяться от последующей части высказывания с помощью запятой, тире, тире с запятой, а также более эмоциональных восклицательного знака и многоточия:
Покойся, мой народ, не дремлет твой хранитель,
Так, мой народ!
Творец, он весь в душе моей… ( Ж. , 209)
Мои ж надежды – что оне ? ( Я. , 262)
Твои враги … они чужбине
Отцами проданы с пелен… ( Я. , 401)
И не зови твоих товарищей-друзей
Пображничать с тобой до утренних лучей:
Друзья, они придут и шумно запируют… (Я., 358)
Предрассудок ! он обломок
Давней правды. ( Б. , 197)
Именно с помощью более «сильных» и эмоциональных знаков чаще всего обособляется именительный представления, при этом в качестве сегмента выступают обычно отвлеченные имена, реже – нереферентно употребляемые конкретные нарицательные и собственные существительные.
Личное или указательное местоимение может замещать целый ряд имен из сегмента – «темы»:
И роскошь, и слава, и Вакх, и Эрот –
Лишь сердце они изнурили… ( Ж. , 211)
И щит его, и метки стрелы –
Они спасут от алчной Гелы. ( Бат. , 176)
Гробницы, урны, пирамиды –
Не знаки ль суетности то? ( Ж. , 5)
Известность, слава, что они ?.. ( Л. , 1, 190)
В отдельных случаях сегмент соотносится с повторяющим его в основной части именем:
Любовь – но что любовь ? Она
Без Вакха слишком холодна. ( Я. , 97)
Иной тип построений – конструкция с именительным темы без коррелирующего с ним местоимения в основной части высказывания:
Желанья!.. что пользы напрасно и вечно желать? (Л., II, 41)
Рим ! всемогущее, таинственное слово! ( В. , 242)
Здесь именительный представления уже не выступает в качестве осложняющего содержащее его предложение сегмента. По степени грамматической самостоятельности такие синтагмы с функцией «темы», открывающие предложение и не соотнесенные с последующим анафорическим элементом, сближаются с однофункциональными синтаксически автономными высказываниями:
А человек ! Святая дева!
Перед тобой с его ланит
Мгновенно сходят пятна гнева… ( Б. , 142)
Предикативный вес и условия употребления инфинитива темы также могут быть различными, ср.:
Довольным быть, неприхотливым,
Сие то есть, что быть счастливым… ( Дер. , 194)
Любить… но кого же?… ( Л., II , 41)
Самостоятельность и объем осложняющего сегмента увеличиваются благодаря распространению его придаточными частями, обособленными оборотами, вставками, так что расчленяется уже сама синтагма «темы»:
Пиндар, каких и не бывало,
Который мог бы мало-мало
Еще не том, ни три, не пять,
А десять томов написать, –
Зачем так рано он скончался? ( Ж. , 240)
Давыдов, пламенный боец,
Он вихрем в бой кровавый… ( Ж. , 157)
Тильзит!.. (при звуке сем обидном
Теперь не побледнеет росс) –
Тильзит надменного героя
Последней славою венчал… ( П. , 252)
В поэтических текстах конца XVIII – первой половины XIX века нередко встречаются аналитические конструкции с сегментом, формально не уподобленным последующему местоимению, – структуры, напоминающие предложения с абсолютными обособленными оборотами:
Сократ ли, истины учитель,
Или правдивый Аристид, –
Мне все их имена почтенны
И истуканы их священны. ( Дер. , 144)
Молитвы!.. нет тому в них нужды,
Кто мудрыми боготворим… ( Дм. , 382)
Эмма, то, что миновало,
Как тому любовью быть! ( Ж. , 322)
…О кудри мягки, их дыханье
Благоуханней пышных роз… ( Д. , 156)
По всей вероятности, сегменты, не согласованные с анафорическими местоимениями, распространились под влиянием французской поэзии. В русской разговорной речи такое вынесение на первое место именительного темы, соотносимого с косвенно-падежной формой местоимения, иногда встречается [8 и др.], но в целом подобное «асинтаксически характеризуемое… нетипично для русского языка» [9].
Часто сегмент открывается союзом ( а, но, и, однако ), присоединяющим содержащее его предложение к предшествующему в структуре текста:
Читает она –
Поэта Светланы,
Вольтера, Парни…
А Скотта романы –
Ей праздник они. ( Я. , 138)
Желал я на другой предмет
Излить огонь страстей своих.
Но память, слезы первых лет –
Кто устоит противу них? ( Л. , 1, 147)
Однако ж этот бич, который всех страшит, Готов до самого Денниса в том сослаться, Что, право, он не столь ужасен, может статься… (Дм., 111)
Активно используемый поэтами первой половины XIX века прием – повтор личного местоимения: местоимение в сопровождении присоединительного союза в абсолютном начале предложения интонационно обособляется от последующей части высказывания с повторяющимся дейктическим компонентом. Такие конструкции в функциональном и ритмомелодическом отношении сближаются с сегментированными. В качестве «сегмента» выступает здесь не слово с номинативной семантикой, а личное местоимение 1-го или 2-го лица, которое в условиях поэтического текста фактически утрачивает конституативную обусловленность, оказываясь единственным средством номинации лирических субъекта и адресата (причем референтная сфера стихотворного дейксиса способна расширяться во времени и пространстве, если иметь в виду потенциальность «нададресата» (термин М. Бахтина) стихотворения – то есть читателя, которому окажутся близкими выраженные в нем мысли и чувства):
А вы … вы в персть преобщенны… ( Дм. , 316)
А я – напрасно я Киприду
Моей богиней называл… ( Я. , 161)
А ты, ты ябедник, шпион, торгаш и сводник. (Б., 208)
Но мы… смотря, как наше счастье тленно, Мы жизнь свою дерзнем ли презирать? (Ж., 319)
А ты – верна ли ты ? ( Я. , 111)
С другой стороны, оформляемые с помощью союза начальные синтагмы с местоимением или именем, оказываются в интонационном плане подобными также риторическим вопросам в диалоге лирического героя с воображаемым собеседником или самим собой.
Еще один тип построений, смежных с сегментированными, – предложения с постпозитивным по отношению к однородному ряду обобщающим словом (местоимением всё, все, никто, ничто ):
Египет, Фец, Марок, Стамбул, страны Востока – Все завоевано крестившимся вождем… ( Ж. , 329) Поэт, политик, победитель –
Все от него успеха ждут… ( В. , 89)
…Бывало, ни Борей
Суровый, ни Феб, огнем своих лучей Мертвящий всякий злик, ни град.
Ни снег и дождь – ничто неймет его… ( Я. , 396)
Подобно анафорическому местоимению в конструкции с «репризой», обобщающее слово замещает собой названные ранее предметы, между ним и сочиненным рядом складываются особые отношения – конкретизации обобщения. Правда, интонация в этом случае оказывается иной: не «ожидающей» (если пользоваться определением И. П. Распопова), как в конструкциях с именительным темы, а «подытоживающей», более нейтральной. К тому же, если позиция сегмента в предложениях с «репризой» может быть только начальной, то однородный ряд относительно свободен в своей локализации.
Поэзии сердца, все чувства – все подвластно. (К., 60)
…В любви ж всегда мы ею
И сами счастливы, и счастие даем,
Словами, взорами, слезой, улыбкой – всем. (К., 249)
Тогда бы люди, даже жизнь моя
В однообразном северном краю,
Все б в новый блеск оделось!.. ( Л. , 1, 206)
В случае препозиции обобщающего слова между ним и однородным рядом складываются отношения пояснения:
… все в движении: флер, шляпки и корсеты, Картоны, ящики, мужья и сундуки… ( Дм. , 125)
Интонационное обособление сочиненной группы, а также особенности координации форм обобщающего местоимения и сказуемого позволили А. Г. Рудневу [10] прийти к выводу о том, что однородный ряд оказывается на самом деле не однофункциональным местоимению, выполняя функцию приложения и обладая имплицитной предикативностью. Поэтому разграничение сегментации и обособления – задача не всегда легкая, и особенно в условиях поэтического контекста, где идентифицирующее и характеризующее значения часто переплетаются в лексической и грамматической семантике словоформы. Вот один из примеров подобного взаимопроникновения, синкретизма:
… поэт ,
Призраками богатый, Беспечностью дитя, –
Он мог бы жить шутя… ( Ж. , 125)
Необычным оказывается употребление обобщающего местоимения не при сочиненном ряде, а для замещения одного имени, которое в этом случае имеет либо значение совокупного целого, либо форму множественного числа:
И этот подлый, гнусный цех,
Союзник беглого портного,
Все прочь и прочь! Долой их всех! ( Я. , 403)
Сердца сладостные муки –
Все прости… его уж нет! ( Ж. , 97)
Функции однородности, обособления и сегментации тесно переплетаются и в случае интонационного выделения сочиненной группы личных местоимений при постпозитивном обобщающем, «объединяющем» мы:
Вот и я, мы служим двум фортунам… (В., 186)
Ты, проповедник и герой Академической свободы, И я – давно мы жребий свой Переменили на иной… ( Я. , 332)
К пограничным конструкциям можно отнести также переходные от обращения к сегментации структуры с вынесенным в начало высказывания личным местоимением 2-го лица, за которым следует придаточная часть или обособленный оборот, характеризующий адресата, завершающиеся более продолжительной паузой, произносимые, скорее, не со звательной, а с «ожидающей» интонацией воспоминания, что оформляется с помощью тире. Такие синкретичные по функции конструкции возможны в условиях поэтического контекста, наделенного свойствами «превращенной», фиктивной коммуникации:
Ты, коего искусство
Языку нашему вложило мысль и чувство, Под тенью здешних древ – твой деятельный ум
Готовил в тишине созданье зрелых дум! (В., 165)
Ты, мной воспетая давно,
Еще в те дни, как пел я радость
И жизни праздничную сладость, Искрокипучее вино, –
Тебе привет мой издалеча… ( Я. , 309)
В силу особых коммуникативных условий риторические обращения в лирическом тексте вообще тяготеют к превращению в конструкции представления.
Итак, ядро конструкций с осложняющим формальную структуру предложения сегментом составляют структуры с так называемой «репризой» («именительный или инфинитив темы + анафорическое местоимение в функции подлежащего»). Периферийными, смежными оказываются конструкции с повтором личного местоимения, а также с препозитивным сочиненным рядом при обобщающем дейктическом слове. В целом, состав сегментированных структур оказывается в описываемую эпоху не столь разнообразным по сравнению с последующим периодом.
По словам Г. Н. Акимовой, «экспрессивная и эстетическая функции именительного представления отражают прагматиче скую сторону высказывания, ее воздействующее начало. Стилистическое выделение сегмента на нейтральном фоне является намеренным» [11]. Действительно, сегментация играет немаловажную роль в формировании авторизующего начала, указывающего на личность автора как источник художественной информации, «на субъект… восприятия, констатации или оценки явлений действительности» [12]. Сегментация, как и другие средства авторизации, направлена на установление контакта между автором и читателем с целью обеспечения успешной дешифровки текста, актуализации заложенных в нем смысловых и эмоциональных центров. Автор, стремящийся спрогнозировать процесс восприятия текста и выступить регулятором его понимания, использует имеющиеся в распоряжении средства для того, чтобы сфокусировать внимание получателя информации на особенно важных, с точки зрения отправителя, элементах дискурса.
Интонационно выразительные, обычно эмоциональные сегментированные конструкции часто заключают в себе ключевые мотивы, образы стихотворения:
Любовь… но я в любви нашел одну мечту, Безумца тяжкий сон, тоску без разделенья… (Ж., 77)
И безразлично, в их речах,
Добро и зло , все стало тенью… ( П. , 308)
А слава … луч ее случайный
Неуловим. ( П. , 360)
Сведения, размещенные в сегменте, акцентируют внимание на внешних и внутренних характеристиках героя, его физическом и психическом состоянии (как правило, отнесенных к плану прошлого или ирреального):
Ласково-детские речи, улыбка сих уст пурпуровых, Негой пылающих, – все как весенней водой уплыло! (Д., 268)
И стан, завидный для харит,
И ясность райского лица,
Чело, достойное венца,
И грудь, белейшая лилей,
И кольца ангельских кудрей,
И голос – лепет ручейка,
И ножка – право, в полвершка,
И, словом, все пленяло в ней… ( Я. , 118–119) Твоя прелестная стыдливость,
Твой простодушный разговор,
И чувств младенческая живость, И гибкий стан, и светлый взор – Они прельстят питомца света… ( Я. , 126) Монах храпит и чудный видит сон.
Казалося ему, что средь долины,
Вокруг него сатиров, фавнов сонм. Иной смеясь льет в кубок пенны вины, Зеленый плющ на черных волосах, И виноград, на голове висящий, И легкий фирз, у ног его лежащий, – Все говорит, что вечно юный Вакх, Веселья бог, сатира покровитель. ( П. , 12) Ты мертвецу святыней слова
Обручена.
Увы, твой страх, твои моленья – К чему оне? ( Л., II , 69)
Номинативные ряды, образующие сегмент, могут создавать впечатление фрагментарности, калейдоскопичности восприятия окружающего мира, передавать детали пейзажа (воображаемого, вспоминаемого, реального):
Север бледный, север плоский, Степь, родные облака –
Все сливалось в отголоски… ( В. , 219) Река, надводный темный лес, Высокий берег – все дремало… ( Ж. , 349) Леса угрюмые, громады мшистых гор, Пришельца нового пугающие взор, Свинцовых моря вод безбрежная равнина, Напев томительный протяжных песен финна – Не долго, помню я, в печальной стороне Печаль холодную вливали в душу мне.
( Б. , 103)
Оставленная пустошь предо мной
Зеленый мох, растущий над окном, Заржавленные ставни – и кругом Высокая полынь – все, все без слов Нам говорит о таинствах гробов. ( Л., I , 120) Когда за городом, задумчив, я брожу И на публичное кладбище захожу, Решетки, столбики, нарядные гробницы, Под коими жиют все мертвецы столицы, В болоте кое-как стесненные рядком, Как гости жадные за нищенским столом, Купцов, чиновников усопших мавзолеи, Дешевого резца нелепые затеи, Над ними надписи и в прозе и в стихах О добродетелях, о службе и чинах;
По старом рогаче вдовицы плач амурный; Ворами со столбов отвинченные урны, Могилы склизкие, которым также тут, Зеваючи, жильцов к себе на утро ждут, – Такие смутные мне мысли все наводит, Что злое на меня уныние находит. ( П. , 585) Зима идет, и тощая земля В широких лосинах бессилья, И радостно блиставшие поля Златыми класами обилья, Со смертью жизнь, богатство с нищетой –
Все образы годины бывшей Сравняются под снежной пеленой… ( Б. , 189)
Вообще, контексты, в которых используется сегментация, обычно связаны с лирическим переживанием прошлого, с фиксацией момента воспоминания:
Все, что прежде кипятило
Чувства свежие твои,
Ты забыл. А юность наша ,
Хороша была она… ( Я. , 347)
Ах, молодость моя , зачем она прошла!
… она, прибежище и сила
И первых нежных чувств и первых смелых дум, Томивших сердце мне и волновавших ум, Она – ее уж нет, любви моей прекрасной! (Я., 414)
И этот образ, он за мною
В могилу силится бежать… ( Л. , 1, 129)
Сей взор невыносимый , он
Бежит за мною, как призрак… ( Л. , 1, 146)
Сегмент, таким образом, участвует в создании категории ретроспекции. Благодаря сегментации совершается дополнительная манифестация субъектно-адресатной перспективы лирического текста и иных дейктических сфер:
А я , я, с памятью живых твоих речей,
Увидел роскоши Италии твоей! ( Б. , 204)
А мне, мне предоставь таить огонь бесплодный,
Рожденный иногда воззреньем красоты… (Б., 132)
А я – студенческому миру
Сказав задумчиво: прощай,
Я перенес разгульну лиру
На Русь, в отечественный край… ( Я. , 333)
А я … какая мне дорога
В гурьбе поэтов-удальцов? ( Я. , 243)
Она – в сем слове милом
Вселенная твоя… ( Ж. , 133)
А я – я вновь взмостился на Парнас ( П. , 15)
А вы , вы модный господин… ( П. , 292)
Но я, дотоле твой поклонник безотрадный ,
В обитель скорбную сойду я за тобой… (П., 300–301)
В стихотворениях, представляющих собой воображаемый диалог или автодиалог – само-рефлексию, акцентуация личных местоимений информативно и прагматически значима. Сегментированные конструкции включаются в поэтический текст при передаче чужой речи, внутреннего диалогизированного монолога, воспроизводя интонации, перебивы естественного речевого потока:
– «И мне такая ж участь, Шмель! –
Сказал ему я, воздыхая. –
Я, лучшим следуя певцам,
Пишу, пишу, тружусь, потею
И рифмы , точно их кладу… ( Дм. , 374–375)
– А мир стихов? Но мир стихов,
Как все земное коловратный, Наскучил мне и нездоров!…
Стихи – куда их мне девать?
– В «Московский вестник»? – Трудно, брат… ( Я. , 258)
Читатель
И я скажу – нужна отвага,
Чтобы открыть хоть ваш журнал
Во-первых, серая бумага ,
Она, быть может, и чиста,
Да как-то страшно без перчаток… ( Л., II , 44)
Сегмент нередко участвует в создании фигур речи – обычно повтора (1) или антитезы (2), которая может «сниматься» контекстом:
-
(1) И Волги пышные брега, И Волги радостные воды – Все мило мне… ( Я. , 258)
-
(2) Богач и нищ, рабы с царями,
Все равно оставляют свет. ( Дер. , 38)
Они шутили, улыбались,
Моею страстью забавлялись;
А я – я слезы лил рекой! ( К. , 163)
И царь, и раб его, безумец и мудрец, Невинная душа, преступник, изверг злобы – Исчезнут все как тень – и всем один конец… ( К. , 201)
На что мне памятники горды?
И скиптр, и посох – все равно… ( Ж. , 7)
Ликует буйный Рим… торжественно гремит Рукоплесканьями широкая арена:
А он – пронзенный в грудь – безмолвно он лежит… (Л., 1, 278)
Еще одна важная функция сегментированных построений – текстообразующая, поскольку сегмент и последующая часть высказывания анафорически «соединены цепной местоименной связью» [13]. Конструкция представления, нередко оказываясь зачином стихотворения, «сосредоточивает на себе максимум внимания», а выделяемый ею предмет «становится объектом наблюдения, анализа, раздумий» [14], к которым автор как бы приглашает читателя. Так, например, в философско-поэтическом сборнике «Сумерки» именительный темы неоднократно используется Е. Баратынским в качестве текстоформирующей доминанты, имитирующей сам внутренний мыслительный процесс:
Все мысль да мысль! Художник бедный слова!
О жрец ее! Тебе забвенья нет…
Резец, орган, кисть! счастлив кто влеком
К ним чувственным, за грань их не ступая! (Б., 195)
Предрассудок! он обломок
Давней правды. Храм упал;
А руин его потомок
Языка не разгадал. ( Б. , 197)
Бедный старец! Слышу чувство
В сильной песне… Но искусство…
Старцев старее оно;
Эти радости, печали –
Музыкальные скрыжали
Выражают их давно! ( Б. , 198)
Именительный темы в зачине с точки зрения актуального членения выступает в качестве ремы.
Большая часть сегментов оказывается размещенной в «сильных» позициях строфы – начало или (редко) конец стиха, целая строка (или несколько стихов). Употребление местоимения после именительного темы в позиции енжамбемента усиливает связь анафорического слова с предшествующим существительным, что выявляет «потенциальную артиклевость местоимения» [15]:
России слава, царств спасенье,
Наук, торговли оживленье,
Союз властей – покой, досуг,
Уму и сердцу вожделенный, –
О! Сколько, сколько счастья вдруг! ( К. , 308) Другой… старик… сколько был он изумлен Тогда, как смерть, ошибкою ужасной, Не над его одряхшей головой,
Над юностью обрушилась прекрасной! (Ж., 180)
Приют любви, он вечно полн
Прохлады сумрачной и влажной… ( П. , 309)
И этот звон люблю я! <…>
…Всегда один,
Высокой башни мрачный властелин, Он возвещает миру все, но сам – Сам чужд всему – земле и небесам… (Л., 1, 222)
Как показали наши наблюдения, интонационно и эмоционально выразительные конструкции с сегментацией становятся достоянием поэтического языка в последние десятилетия XVIII века – в эпоху Державина, Карамзина и Дмитриева, которые первыми в лирическом роде выразили стремление подчинить художественный слог требованию разговорной легкости и гибкости. Эта реформаторская тенденция была активно поддержана поэтами «школы гармонической точности» – Жуковским, Батюшковым и их младшими современниками. Частотность сегментов, осложняющих структуру содержащего их предложения, достигает максимальных показателей в поэзии Крылова, Жуковского и Языкова.
Таким образом, сегментированные структуры более свойственны жанрам с ярко выраженным медитативным, «философическим» началом (прежде всего элегиям), а также текстам, богатым интонациями естественной, непринужденной речи. Используя сегментированное построение, автор словно бы приглашает читателя к диалогу, совместному поиску истины, размышлению, переживанию, выдвигая предмет, тему воображаемого разговора в «сильную», ритмо-мелодически выделенную позицию.
Список литературы Конструкции с сегментацией в стихотворных произведениях
- Баратынский Е. А. Полн. собр. стихотворений. Л.: Сов. писатель, 1989. 462 с.
- Батюшков К. Н. Полн. собр. стихотворений. М.; Л.: Сов. писатель, 1964. 380 с.
- Вяземский П. А. Соч.: В 2 т. Т. 1. М.: Худ. лит., 1982. 462 с.
- Дельвиг А. А. Полн. собр. стихотворений. Л.: Сов. писатель, 1959. 369 с.
- Державин Г. Р. Сочинения. М.: Правда, 1985. 575 с.
- Дмитриев И. И. Полн. собр. стихотворений. Л.: Сов. писатель, 1967. 480 с.
- Жуковский В. А. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. М; Л.: Худ. лит., 1959. 424 с.
- Карамзин Н. М. Полн. собр. стихотворений. М.; Л.: Сов. писатель, 1966. 502 с.
- Лермонтов М. Ю. Полн. собр. стихотворений: В 2 т. Л.: Сов. писатель, 1989. 687 с.
- Лермонтов М. Ю. Полн. собр. стихотворений. Т. 2. 686 с.
- Пушкин А. С. Соч.: В 3 т. Т. 1. М.: Худ. лит., 1985. 735 с.
- Языков Н. М. Полн. собр. стихотворений. М.; Л.: Сов. писатель, 1964. 706 с.
- Тарланов З. К. Конструкции представления//Тарланов З. К. Язык. Этнос. Время. Петрозаводск: Изд-во Петр-ГУ, 1993. 223 с.
- Акимова Г. Н.Новое в синтаксисе современного русского языка. М.: Высш. шк., 1990. С. 113.
- Попов А. С. Именительный темы и другие сегментированные конструкции в современном русском языке//Развитие грамматики и лексики современного русского языка. М.: Наука, 1964. С. 256-274.
- Попов А. С. Сегментация высказывания//Русский язык и советское общество. Морфология и синтаксис современного русского литературного языка. М.: Наука, 1968. С. 302-321.
- Тарланов З. К. Становление типологии русского предложения в ее отношении к этнофилософии. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1999. С. 159.
- Балли Ш. Французская стилистика: Пер. с франц. М.: Иностр. лит., 1961. С. 358-359.
- Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. М.: Учпедгиз, 1956. С. 407.
- Русская разговорная речь/Под ред. Е. А. Земской. М.: Наука, 1973. С. 243.
- Теория функциональной грамматики. Субъектность. Объектность. Коммуникативная перспектива высказывания. Определенность/неопределенность. СПб.: Наука, 1992. С. 206.
- Руднев А. Г. Синтаксис современного русского языка. М.: Высш. шк., 1968. С. 172.
- Акимова Г. Н.Новое в синтаксисе современного русского языка... С. 111.
- Золотова Г. А. Очерк функционального синтаксиса русского языка. М.: Наука, 1973. С. 263.
- Солганик Г. Я. Синтаксическая стилистика: (сложное синтаксическое целое): Учеб. пособие. 2-е изд., испр. и доп. М.: Высш. шк., 1991. С. 141.
- Солганик Г. Я.Синтаксическая стилистика. С. 141.
- Зубова Л. В. Реставрация древних грамматических свойств и отношений в поэзии постмодернизма//Историческая стилистика русского языка. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1998. С. 315.