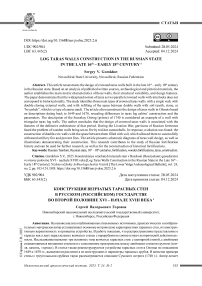Конструкция венчатых тарасных стен в Русском (Российском) государстве во второй половине XVI – начале XVIII века
Автор: Горохов С.В.
Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 2 т.24, 2025 года.
Бесплатный доступ
На основе анализа опубликованных письменных источников, археологических и изобразительных материалов автор устанавливает основные метрические характеристики тарасных стен, их конструктивную вариативность и принципы устройства. В работе показано, что распространенное представление о тарасах как о двух параллельных венчатых стенах с перерубами не соответствует исторической действительности. Исследование выявляет три основных типа венчатых тарасных стен: с одинарной стеной, с двойными смыкающимися внешними стенами и с заполнением пространства между двойными стенами грунтом (земля, камень, «хрящ»). В статье также реконструируются устройства тарасных стен в Олонце по описаниям 1649 и 1670 гг., выявляются различия в их конструкциях и параметры тарасных срубов. В качестве примера стены с треугольными срубами тарас рассматривается описание Сумского острога (1740 г.). Автор делает вывод о том, что устройство венчатых тарасных стен было связано с особенностями оборонительного зодчества того времени. В ходе Ливонской войны гарнизоны русских крепостей столкнулись с проблемой поджигания деревянных стен с помощью раскаленных ядер. В ответ на это было найдено решение: возведение двухрядных стен с заполнением пространства между ними грунтом, что позволило успешно противостоять артиллерийскому обстрелу и предотвратить возникновение пожара. В статье представлены принципиальные схемы устройства тарасных стен, а также иллюстрации, демонстрирующие их конструкцию. Данная публикация вносит вклад в изучение истории русской фортификации и может быть использована для дальнейших исследований, а также для реконструкции исторических укреплений.
Русское государство, Российское государство, XVI–XVIII века, фортификация, деревянные оборонительные сооружения, тарасы, конструкция
Короткий адрес: https://sciup.org/149148407
IDR: 149148407 | УДК: 902/904 | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2025.2.6
Текст научной статьи Конструкция венчатых тарасных стен в Русском (Российском) государстве во второй половине XVI – начале XVIII века
СТАТЬИ
DOI:
Цитирование. Горохов С. В., 2025. Конструкция венчатых тарасных стен в Русском (Российском) государстве во второй половине XVI – начале XVIII века // Нижневолжский археологический вестник. Т. 24, № 2. С. 103–124. DOI:
Одной из основных конструкций стен в деревянных и древо-земляных фортификационных сооружениях в Русском государстве были тарасы. Современная концепция устройства тарасных стен, которой придерживается большинство исследователей, была сформулирована Ф.Ф. Ласковским в 1858 году. Согласно ей такая стена представляла собой две параллельные венчатые стены с перерубами [Горохов, 2024а]. Однако Ф.Ф. Ласковский не подвел под свое представление о тарасных стенах необходимые источниковую и доказательную базы. Не сделали этого и последующие поколения историков фортификации. Ранее в специальной статье 2 на основе репрезентативной выборки письменных и археологических источников была рассмотрена гипотеза о том, что тарасы представляли собой две параллельные венчатые стены с перерубами. Было установлено, что в письменных источниках отсутствуют прямые доказательства справедливости рассматриваемой гипотезы, при этом выявлено множество свидетельств ее ошибочности. В частности, установлено, что тарасная стена могла состоять из одного ряда стен, а тарасы не являлись сплошной конструкцией. Обнаружены существенные различия в локализации фортификационных сооружений с тарасами и со стенами «в две стены», а также в способе их описания в документах XVI–XVIII веков. По результатам проведенного исследования была поставлена задача изучить вопрос конструкции тарас-ных стен в Русском государстве на максимально широкой источниковой базе.
В другой статье 3 было установлено, что 1) тарасы и стена – это разные конструкции или разные элементы одной конструкции, сопряженные друг с другом; 2) тарасы представляли собой отдельные срубы, располагавшиеся на некотором расстоянии друг от друга. В этой же публикации было выявлено три принципиальные схемы устройства тарас: высокие тарасы и тын, низкие тарасы и тын, высокие тарасы и рубленая стена. Целью исследования, результаты которого представлены в настоящей статье, была реконструкция устройства рубленой (венчатой) стены с высокими тарасами. Источниковая база исследования представлена опубликованными письменными источниками [Горохов, 2024б], археологическими и изобразительными материалами.
Известно всего два описания венчатых тарасных стен, на основе которых можно выполнить достаточно полную реконструкцию. Составлены они в 1649 и 1670 г. и относятся к крепостным стенам Олонца. Поэтому в данной статье сначала будет выполнена их реконструкция, для того чтобы составить представление о принципах устройства венчатых тарас-ных стен, а затем на основе всего корпуса письменных источников будут установлены основные метрические характеристики таких стен и их конструктивная вариативность.
Согласно описанию Олонца в 1649 г., город был рублен «в тарасы в четвероуголные, до нижних боев рублен в 2 стены, а межу стен пущено 3 чети аршина, насыпан землею для зашиты пушечной и пищалиной стрельбы; а тарасы рублены по городу в сажень, а в город 2 сажен без четверти, а в тарасех просечены бои пищалные, а в тарасы из города двери просечены для вместки осадных лю- дей <...> а межу тарасов стены по 2 сажени, просечены межу тарасов по два бои нижних. А по городу намощен мост, а с мосту рублена городовая стена по верхние пищалные бои, с обломы, в 2 стены, для крепости и защиты пищалной стрелбы; а в обломех бои пищал-ные <...> А вышина городу, рублен по кровлю 3 сажен с четвертью, ширина городу 2 сажени без четверти» [Дополненiя ... , 1848, с. 228].
Стены Олонца в 1649 г. были венчаты-ми (рис. 1, 1 , 2). До первого яруса бойниц стена была двойная («до нижних боев рублен в две стены»). Расстояние между стенами составляло 54 см («3 чети аршина»). Такая стена сама по себе не может находиться в вертикальном положении, поэтому изнутри располагались тарасы («а тарасы рублены <...> в город 2 сажен без четверти»), которые представляли собой четырехугольные срубы («в тарасы в четвероуголные»). При этом тарасы должны были перерубаться со стеной. В противном случае стена, не имея возможности упасть в город, непременно упала бы в сторону «поля»4. Протяженность тараса по линии стены составляла 2,16 м, в перпендикулярном направлении – 3,78 м («тарасы рублены по городу в сажень, а в город 2 сажен без четверти»). Расстояние между соседними тарасами равнялось 4,32 м («межу тарасов стены по 2 сажени»). Это означает, что внешняя и внутренняя стены сооружались из трехсаженных бревен (сумма протяженности тараса по линии стены и расстояния между тарасами). Из таких же бревен возводились и три внутренние стены срубов тарасов. Для этого трехсаженное бревно разделялось на две неравные части: протяженностью 4,05 и 2,43 м. Длинная часть была короче двух саженей ровно на 6 вершков, а короткая часть – длиннее одной сажени на ту же величину. Принцип деления трехсаженного бревна на две части состоит в следующем. Короткая часть бревна должна быть не менее 2,16 м, так как протяженность тараса по внешней стене составляла одну сажень. Длинная часть – не короче 3,78 м (две сажени без четверти). После суммирования этих величин остается еще 0,54 м, которые идут на выпуски бревен сруба тараса, коих на двух бревнах четыре. Таким образом, размер выпусков составляет 13,5 см (ровно 3 вершка).
Высота тарас может быть вычислена путем определения расстояния от подошвы до моста, который настилался поверх тарас. Высота стены до кровли составляла 7,02 м («рублен по кровлю 3 сажен с четвертью»). От моста до стропил кровли должно быть около одной сажени (2,16 м), чтобы взрослый человек мог свободно действовать на мосту при обороне города, оперируя длинноствольной ручной пищалью. Существенно большее расстояние между мостом и кровлей лишено практического смысла. Следовательно, мост настилался на высоте около 4,86 м (две сажени с четвертью), что и составляет высоту тарас. При обычной толщине бревна 31–35 5 см (7–8 вершков) и глубине паза в 4 см (около одного вершка) в тарасе было 17 венцов. На секцию стены, образованную трехсаженным пролетом и одним тарасом без моста и обламной части, требовалось 71 трехсаженное бревно. При этом оставалось 16 обрубков длиной 2,38 м, которые, вероятно, употреблялись на сооружение иных крепостных конструкций.
Высота внутренней стены определяется высотой расположения бойниц («до нижних боев рублен в 2 стены»), которая зависит от среднего роста взрослого мужчины. Например, в Кольском остроге она составляла два аршина. Такой же она должна была быть и в Олонце (1,4 м, 5 венцов при толщине бревна 32 см и пазе 4 см). Для заполнения пространства между стенами на трехсаженном участке требовалось 5,1 м3 грунта.
Трехсаженные бревна во внешней и внутренней стене должны были укладываться в шахматном порядке для исключения образования сплошного стыка бревен от подошвы до верхнего края стены. Это существенно ослабило бы жесткость конструкции стены, особенно под давлением грунта и ударами ядер осадной артиллерии.
На одну сажень стены приходилась одна бойница: из тарасного сруба прорубалась одна бойница («в тарасех просечены бои пищал-ные»), а в пролете стены между тарасами – две («просечены межу тарасов по два бои нижних»). Попадали в тарас через проем в стене, обращенной в город («а в тарасы из города двери просечены»).
В данной статье не станем касаться устройства обламной части стен, так как, во- первых, это не является предметом исследования, а во-вторых, прежде необходимо на широкой источниковой базе выявить основные схемы и параметры устройства обламов, что должно стать предметом специального исследования.
Согласно описанию Олонца 1670 г., «тарасы рублены вышиною до мосту полторы саж. с двемя вершки, а землею тех тарасов еще насыпать не изоспели, а сыпать тех тарасов землею вверх мерою саж. и над землею будет в тех тарасах до мосту полсажени с двумя вершки, и в тех тарасах над землею под мостом учинен середней бой. А вход в те тарасы к среднему бою учинен с мосту, а в ширину те тарасы с лица сажень с аршином. А внутре города те тарасы шириною сажень, а меж теми тарасами учинен нижной бой и снутра меж теми тарасами, где учинен ниж-ной бой, шириною сажень без полуаршина, а с лица у бойниц шириною в аршин» [Русская историческая ... , 1884, ст. 927].
Из приведенного описания следует, что стена была венчатой, так как отсутствуют какие-либо признаки, указывающие на наличие тына (рис. 1,2, 3). Такая стена сама по себе не может находиться в вертикальном положении, потому что отсутствует скрепление бревен между собой. Значит, стена образовывала единую конструкцию со срубами тарас (стена врубалась в срубы-тарасы). В плане тарасы имели форму равнобедренной трапеции, так как протяженность внешней стены составляла 2,88 м, а внутренней – 2,16 м («в ширину те тарасы с лица сажень с аршином. А внутре города те тарасы шириною сажень»). Ширина тарас от внешней стены до внутренней не указана, но ее можно рассчитать. Во-первых, известна протяженность параллельных стен сруба-тараса. Во-вторых, для строительства тарасных стен обычно использовали трехсаженные бревна, следовательно, длина бревен в боковых стенах должна быть две сажени (трехсаженное бревно делилось на две неравные части длиной 1 и 2 сажени). При таких условиях ширина сруба-тараса от внешнего края стены до внутреннего составляла 4,02 м. Такие метрические параметры сруба тараса позволят наиболее рационально использовать строительный материал. Образовавшиеся в процессе возве- дения длинных стен сруба тараса односаженные бревна могли быть употреблены для сооружения внутренней стены сруба тараса, а оставшиеся бревна в количестве числа венцов сруба тараса – для сооружения моста среднего боя. Расстояние между тарасами составляло 0,72 м по линии внешней стены и 1,8 м по линии внутренних стен тарас («снутра меж теми тарасами, где учинен нижной бой, шириною сажень без полуаршина, а с лица у бойниц шириною в аршин»). Высота тарасного сруба составляла «полторы сажени с двемя вершки», то есть 3,33 м.
Если текст источника понимать буквально, то срубы тарас следовало наполнить грунтом на высоту в одну сажень («а сыпать тех тарасов землею вверх мерою сажень»). На образовавшейся площадке был устроен средний бой («и в тех тарасах над землею под мостом учинен середней бой»). При этом от площадки среднего боя до моста верхнего боя было всего 1,17 м («и над землею будет в тех тарасах до мосту полсажени с двумя вершки»). Этого пространства недостаточно, чтобы устроить средний бой, так как даже если предположить, что стрельба велась из положения лежа или с колена, то имеющегося пространства будет недостаточно для манипуляций с длинноствольной пищалью. Это означает, что буквальное прочтение текста источника в рамках нашего текущего понимания фортификационной терминологии XVII в. не позволяет воссоздать конструкцию тарасных стен Олонца.
Кроме невозможности устройства среднего боя в рамках описанных условий, обращает на себя внимание явно избыточная толщина грунта (3,4 м). Ядра осадных орудий не способны были пробить даже полуметровый слой грунта, расположенный между двумя деревянными стенами, что показывает конструкция стены в Олонце в 1649 году. Вероятно, конструкция стены в 1670 г. была подобна конструкции 1649 г., то есть внешняя стена была двойной и заполнена грунтом. Только в обновленной крепости внутренняя стена была выше – одна сажень. При таком условии указания источника на то, что расстояние от уровня грунта в тарасах до моста было 1,17 м, следует понимать таким образом, что это расстояние от верхней части внутренней стены до моста. Следовательно, площадка среднего боя, на которой помещались защитники крепости, должна располагаться ниже верхнего края внутренней стены на два аршина (расстояние до моста около 2,6 м). То есть на таком уровне, при котором: 1) защитникам крепости будет удобно вести стрельбу через бойницы, прорубленные над верхним краем внутренней стены, и манипулировать длинноствольной пищалью; 2) защитники крепости будут прикрыты до уровня плеч от пушечной и пищальной стрельбы двойными стенами с грунтом. На возведение трех саженей такой стены с тарасами 6, но без моста верхнего боя и обламов потребуется 99 трехсаженных бревен толщиной 32 см и 7,5 м3 грунта. Бревна внешней и внутренней стены должны были укладываться в шахматном порядке. В противном случае образуется сплошной шов-смычка соседних бревен от подошвы до верхнего края стены, что снижает сопротивляемость стены давлению грунта и ударам ядер осадной артиллерии в этом месте.
Бойницы нижнего боя располагались между тарасами («а меж теми тарасами учинен нижной бой»), а среднего боя – в тарасах («в тех тарасах над землею под мостом учинен середней бой»). Таким образом, на одну сажень и два аршина стены приходились одна бойница нижнего боя и одна среднего. Для увеличения угла обстрела из бойниц нижнего боя они должны были существенно расширяться внутрь двойной внешней стены с хрящом. О бойницах нижнего боя в тарасах ничего не сообщается. Их там не могло быть, так как площадка среднего боя находилась на высоте одного аршина от земли. Вести стрельбу и манипулировать длинноствольной пищалью в таких условиях невозможно. Об отсутствии нижнего боя в тарасах свидетельствует и то, что в росписи нет упоминания о дверях, ведущих в тарасы. Защитники крепости попадали на площадку среднего боя с моста, так как, во-первых, устроить вход туда с первого этажа тарас было невозможно и, во-вторых, прорубание дверного проема непосредственно в срубе тараса снижало его жесткость и, как следствие, устойчивость к артиллерийскому обстрелу. Вероятно, пространство в тарасах под площадкой среднего боя никак не использовалось и доступа к нему не было.
Таким образом, стены Олонца в 1670 г. стали более устойчивы к воздействию артиллерии, чем в 1649 г., так как: 1) тарасы расположены более плотно друг к другу; 2) в тарасах отсутствует дверной проем, что увеличивает прочность конструкции тараса и стены; 3) увеличилась высота внутренней стены и грунтовой засыпки. Однако уменьшилась высота стены. Возросла и плотность огня защитников крепости, потому что в стене от подошвы до моста увеличилось количество бойниц, приходящихся на одну сажень.
Сообщения письменных источников о размерах различных конструкций в составе венчатых тарасных стен весьма скупы. Подробнее всего характеризуется высота стен, которая обычно указывалась от подошвы до кровли. В таких случаях производилось вычитание из высоты стены одной сажени, так как именно такое пространство над мостом необходимо защитникам крепости, чтобы манипулировать длинноствольными ручными пищалями. Полученное значение соответствует высоте тарас, потому что мост опирался непосредственно на них. Из таблицы 1 видно, что чаще всего высота тарас соответствовала значениям, кратным одной сажени (1, 2, 3) или полусажени (1,5, 2,5). Реже – четверти сажени (1,25, 1,75, 2,25). По всей видимости, минимальной высотой тарасных срубов в вен-чатых тарасных стенах была одна сажень, максимальная – три сажени. Самыми распространенными были срубы-тарасы высотой до двух саженей. Из общего ряда выбивается высота тарас в Белгороде (шесть саженей в 1676 г.) по данным А.В. Никитина, который ссылается на архивный источник [Никитин, 1962, с. 276]. Возможно, это ошибка и речь должна идти не о саженях, а о метрах.
Протяженность четырехугольных срубов тарас по линии внешней стены составляла преимущественно одну сажень, иногда доходя до 1,33–1,5 саженей. Стены срубов тарас, перпендикулярные внешней стене, чаще всего имели протяженность, кратную четверти сажени, в интервале от одной сажени до двух саженей без четверти 7 (табл. 2).
Срубы тарас в плане были не только прямоугольными, но и косыми или треугольными (рис. 4). Последние по письменным источникам зафиксированы в Коротояке (1732 г.) [Во- ротникова, Неделин, 2016], Красноярске (начало XIX в.) [Воротникова, Неделин, 2021, с. 628], Мирополье (1718 г.), на Подоле в Киеве (вторая половина XVII в.) [Носов, 2018, с. 67], Сумском остроге (1740 г.), Царицыне (1737 г.), Черноярске (1741 г.) [Воротникова, Неделин, 2021, с. 486, 508]. Сруб треугольных тарас имел три стены, одна из которых была единой внешней стеной крепости.
Подробнее всего стена «на треугольных тарасах» описана в 1740 г. в Сумском остроге. Одна стена «длиною двадцать саженей, рублена в два бревна, на восьми тарасах треугольных. На них переходы в полторы сажени. Стена от земли в вышину до кровли три сажени». Другая «стена северная длиною 28 сажень один аршин 8 вершков, рублена в два бревна на 18 тарасах треугольных» [Миль-чик, Шахнович, 2016, с. 209]. Этой информации достаточно, чтобы определить основные метрические параметры стены.
Сначала реконструируем стену по первому, более подробному описанию (рис. 5,1, 6). На один тарас приходится 2,5 сажени стены, поэтому протяженность тараса по линии стены не может быть более этого значения (5,4 м). Вероятно, между тарасами были устроены бойницы нижнего боя. Для этого необходимо, чтобы тарасы отстояли друг от друга по линии стены не менее чем на один аршин 8, как это было сделано в Олонце (1670 г.). В таком случае ширина тарас по линии стены не будет превышать 4,68 м. Согласно описанию, ширина моста была 1,5 сажени, соответственно, и ширина сруба тараса в направлении перпендикулярном внешней стене, должна соответствовать этому расстоянию. Каждая из двух внутренних стен тарас должна иметь протяженность ровно в 2 сажени с учетом выпусков бревен. Это позволит, во-первых, соблюсти минимальное расстояние между срубами тарас и ширину стены и, во-вторых, рационально использовать заготовленные для строительства бревна, стандартная длина которых в деревянном крепостном зодчестве была 3 или 4 сажени. Если внутренние стены тарас стыковать под прямым углом, то при соблюдении ширины стены в 1,5 сажени оказывается, что длины бревен недостаточно для соединения внутренних стен с внешней с выпуском, а также невозможно соблю- сти минимальное расстояние между срубами тарас. Следовательно, угол между внутренними стенами тарас должен быть острым (около 73°). В таком случае протяженность сруба тараса по линии внешней стены составит искомые 4,68 м, а расстояние между соседними срубами тарас по внешней стене – один аршин (0,72 м).
Так как сруб тараса состоит из трех стен, то его рубка как четырехстенка невозможна, потому что нельзя соблюсти принцип, когда все бревна, примыкающие к каждому бревну, должны располагаться на половину своей толщины выше или ниже его 9. Решить эту проблему можно, расположив бревна внутренних стен сруба тараса в одном уровне, соединив их специальным образом (рис. 6, 3 ). Тогда к каждому бревну во внешней стене будут примыкать бревна, расположенные только выше или ниже его на половину их диаметра.
Внешняя стена состояла из двух смыкающихся рядов бревен, так как ничего не сообщается о заполнении пространства между стенами грунтом. Высота тарас была около 2 сажен, еще одна сажень должна приходиться на пространство над мостом («стена от земли в вышину до кровли три сажени»).
На другом отрезке стены на 28 саженях было расположено 18 тарасов, то есть на один тарас приходилось примерно 1,5 сажени стены (рис. 5, 2 , 7). Так же, как и в первом случае, между тарасами должны были быть бойницы нижнего боя, поэтому протяженность одного тараса по линии стены составляла 2,52 м. Сооружение более узких тарас на этом участке стены, вероятно, было вызвано необходимостью устроить большее количество бойниц нижнего боя между срубами тарас 10. При ширине тарас по линии, перпендикулярной внешней стене крепости в 1,5 сажени, для сооружения внутренних стен срубов тарас были необходимы бревна длиной 1,75 сажени. Угол между внутренними стенами тарас-ного сруба составлял около 42°. Такой сруб также имел особую конструкцию, о которой было сказано выше (рис. 6, 3 ).
Если обратиться к словарю В.И. Даля, то можно обнаружить следующие значения слова «косой»: 1) «косая стена, столб, неотвесный, наклонный», 2) «непрямой», «кривая черта, гнутая, дуга», 3) «косой угол, наклонный, меньше или больше прямого, острый или тупой», «треугольный» [Даль, 2006, т. 2, с. 176, 177]. В Словаре русского языка XI–XVII вв. в статье «Косой» указаны такие значения: 1) «имеющий наклонные, неотвесные линии или грани», 2) «имеющий изогнутость, кривизну, искривление» [Словарь ... , 1980, с. 365, 366]. В письменных источниках нет признаков того, что тарасный сруб мог быть наклонным, и того, что стены сруба были непрямолинейными. Вероятнее всего, под косыми тарасами подразумевался треугольный или четырехугольный сруб с непрямыми углами (трапеция), как в Олонце в 1670 году.
Венчатая тарасная стена сооружалась из трех- или четырехсаженных бревен, как это указано в описаниях Касимова и Новгорода [Книги Касимовскаго ... , 1893, с. 20, 23, 24; Новгород Великий ... , 1986, с. 73–82]. Вероятно, все же чаще из трехсаженных бревен, так как это был распространенный стандарт для крепостного строительства, о чем известно из многочисленных описаний башен, большинство из которых имело протяженность стены в три сажени. Толщина бревен указана лишь в описании Вологды, Касимова и Кольского острога 11 – 7 или 8 вершков (31–36 см) [Кукушкин, 2016, с. 205].
О расстояниях между тарасными срубами можно судить только по описаниям Олонца, где они в разное время составляли один аршин (1670 г.) и две сажени (1649 г.) по линии внешней стены [Дополненiя ... , 1848, с. 228– 230; Русская историческая ... , 1884, ст. 927]. Один аршин был минимальным расстоянием, так как в противном случае не было возможности устроить бойницу между тарасами. При таком расстоянии между соседними тарасами их срубы должны были представлять собой в плане треугольник или трапецию, чтобы можно было оперировать длинноствольной пищалью. Максимальное расстояние между соседними тарасами по линии внешней стены крепости составляет разницу между стандартной длиной бревна во внешней стене и протяженностью тараса по внешней стене крепости. Например, при длине бревна в четыре сажени и ширине сруба тараса по линии внешней стены в одну сажень расстояние между тарасами не могло быть больше трех саженей. Иначе во внешней стене появятся бревна, у которых будет лишь один переруб с перпендикулярными к ним стенами тарас (либо вовсе не будет перерубов), что существенно снизит прочность стены в месте расположения такого бревна.
Внешняя стена венчатой тарасной стены могла состоять из одного ряда бревен (Ин-сара (1703 г.), Кцынские ворота на одноименной засеке (1638 г.), Новгород (1664, 1675 г.), но чаще из двух (Борисов (1660 г.), Брест (1660 г.), Касимов (1671–1674 гг.), Кемский городок (1657 г.), Киев (1675 г.), Кольский острог (1703 г.), Новгород (1664 г.), Олонец (1649 г.), Сумской острог (1680, 1740 г.)). В некоторых крепостях упоминается о двойной стене и наличии грунтовой (земля, камень, «хрящ») засыпки (Кемский городок, Киев, Олонец, Сумской острог (1680 г.)), в других говорится только о двойной стене. Вероятно, существовало два вида двухрядных стен: 1) два ряда бревен одной стены располагались на некотором расстоянии друг от друга, а пространство между ними было заполнено землей (рис. 1,1,2, 2, 3); 2) два ряда бревен одной стены располагались вплотную друг к другу (рис. 1,3, 5–7). Существование стен первого вида подтверждается многочисленными прецедентами упоминания земляной засыпки (36 различных фортификационных сооружений). Выше при реконструкции стен Олонца был сделан вывод о том, что землей заполнялось только пространство между двумя внешними стенами, а также приведены сведения о толщине слоя засыпки. В качестве материала заполнения чаще всего называется земля (в 28 фортификационных сооружениях из 36), реже «хрящ» (5) и камни (3). Заполнение хрящом и камнями в основном применялось на севере Русского государства (Вологда, Новгород, Соловецкий монастырь, Кемский городок, Сумской острог) [Горохов, 2024б]. Согласно словарю В.И. Даля, хрящ – это 1) «твердое, упругое вещество, коим одеты концы мослов» в теле животного, 2) «мягко-твердый, упругий», 3) «хрящатый песок, крупный» [Даль, 2006, т. 4, с. 551]. Все перечисленные значения согласуются с контекстом употребления термина «хрящ» при описании фортификационных сооружений. Вероятно, хрящом называли крупнозернистый песок, который одновременно обладал свойствами твердости и упругости, что позволяло ядру проникнуть в него и завязнуть. Какой-либо хронологической закономерности в употреблении различных названий заполнения стен нет.
Двойные тарасные стены с заполнением грунтом показаны на плане города Кола 1732–1736 гг. как в плане, так и в разрезе [Ко-сточкин, 1958, с. 218, рис. 14, с. 225, рис. 17]. В стене было два моста и три боя. От подошвы до кровли внешняя стена была двойной с некоторым промежутком между бревнами. Ее толщина составляла около полусажени. Следовательно, толщина грунтовой засыпки была около ¼ сажени, которая поднималась только до моста среднего боя.
В настоящий момент известен один случай археологического исследования тарасной стены с заполнением грунтом. В 1951 г. при раскопках в Белгороде А.В. Никитин в двух разных раскопах зафиксировал фрагменты такой стены. В раскопе 2 «на глубине 0,6 м в западной части раскопа прослежены обугленные остатки двух пар уложенных параллельно бревен, лежавших по оси и поперек вала, образуя как бы клеть с двойными стенками <...> Остатки же “клети”, видимо <...> являются остатками сгоревшей стены крепости» [Никитин, 1962, с. 263, 264]. Судя по приведенной А.В. Никитиным фотографии, его описание не вполне точное. На фотографии виден участок стены, представленный двумя лежащими параллельно друг другу бревнами, между которыми расположена прослойка грунта. Этот участок стены перпендикулярно примыкает к другому аналогичному отрезку, который, скорее всего, является стеной башни (рис. 8). Раскоп 4 «был заложен в северной оконечности наружного вала, в месте выступа, позволявшего предполагать остатки какого-либо сооружения. Здесь, непосредственно под дерновым слоем, были прослежены идущие вдоль оси вала две параллельные полосы угля. Ниже залегали два ряда обгорелых бревен, лежавших параллельно друг другу, с промежутком в 15–50 см, заполненным серожелтой глиной, отличной от окружающего грунта и являвшейся искусственным заполнением двойной бревенчатой стены <...>. Обе части стены примыкали к углам выступающей наружу квадратной клети (размером 5 х 5 м) с такими же двойными стенами и гли- няным заполнением. Хотя это сооружение сохранилось плохо, однако совершенно ясно, что это остатки башни, рубленой “в обло”» [Никитин, 1962, с. 265].
Существование стен второго вида требует специального доказательства. Во-первых, выше были приведены сведения о двойных стенах без упоминания заполнения пространства между ними грунтом. Учитывая то, что земляная прослойка значительно повышает стойкость крепостных стен при обстреле из артиллерии и увеличивает трудозатраты и время на ее возведение, такие важные подробности о конструкции стены непременно должны были присутствовать в описях. Если их нет, то можно предполагать наличие внешней стены из двух или более смыкающихся рядов бревен. Во-вторых, при описании Сумского острога (1740 г.) говорится не о двойных стенах, а о стене «в два бревна» без упоминания грунтовой засыпки [Мильчик, Шахнович, 2016, с. 208, 209], что прямо свидетельствует о существовании двойных смыкающихся стен. Аналогичный пример есть в описании Кольского острога с той лишь разницей, что стены в нем были тыновые: «острог стоячей в две стены» [Труды Архангельскаго ... , 1866, с. 59]. В-третьих, однорядные стены не выдерживали пушечной и даже пищальной стрельбы, что прямо следует из описания Олонца 1649 г.: «...до нижних боев рублен в 2 стены, а межу стен пущено 3 чети аршина, насыпан землею для зашиты пушечной и пи-щалиной стрельбы» [Дополненiя ... , 1848, с. 228]. Вероятно, по этой причине в крупных и важных оборонительных сооружениях на опасных направлениях однорядные стены не использовались, что нашло отражение в письменных источниках, в которых присутствуют единичные упоминания о таких стенах. Они сделаны специально, чтобы указать на слабость описываемого укрепления. В-четвертых, в «Записках о Московской войне» Р. Гей-денштейн пишет, что деревянные стены «более безопасны для обороны и представляют большую выгоду, нежели каменные, так как <...> таковое строение больше противится действию орудий». Однако применение раскаленных ядер привело к тому, что «такия ядра, проникнув в дерево, дольше остаются незамеченными, и по этой причине не могут так легко как огонь, быть потушены, а в силу того весьма действительны для возбуждения пожара». Средство против каленых ядер появилось достаточно быстро: «Сабуров раньше придумал средство, чтобы невозможно было при осаде <...> воспользоваться калеными ядрами. Наученный исходом других осад, он сломал стену, где она была слишком толста, и, оставив только один ряд бревен, которым она держалась, внутреннюю часть ея прикрыл довольно широкою насыпью, которую он скрепил плетнем, вследствие того ядра, быстро проходя чрез тонкую стену, оставались в насыпи и там сами собой и потухали». С одной стороны, при описании Олонца говорится, что однорядная стена не выдерживает пушечной и пищальной стрельбы. То же подтверждает и Гейденштейн. С другой стороны, Гейден-штейн пишет, что деревянные стены успешно противостоят артиллерийскому обстрелу и что в них застревают раскаленные ядра. Из этого следует, что Гейденштейн описывает многорядные деревянные стены. В том числе он прямо пишет об этом: Сабуров «сломал стену, где она была слишком толста <...> оставив только один ряд бревен, которым она держалась» [Гейденштейн, 1889, с. 30, 58, 59, 160].
На основе проведенного анализа можно сделать ряд выводов: 1) после появления стен тарасной конструкции в середине XVI в.12 на протяжении нескольких десятилетий в Русском государстве были крепости с венчаты-ми многорядными смыкающимися внешними стенами без заполнения грунтом, которые успешно противостояли действию осадной артиллерии; 2) в ходе Ливонской войны гарнизоны русских крепостей столкнулись с тем, что такие стены легко поджечь с помощью раскаленных ядер, так как они пробивали внешний ряд бревен стены и застревали в многорядной стене, вызывая пожар; 3) уже в ходе Ливонской войны был найден способ борьбы с поджигающим действием раскаленных ядер, которой состоял в том, чтобы дать такому ядру пробить внешнюю стену и попасть в слой грунта, в котором ядро остывало, не вызывая пожара; 4) после этого началось возведение двухрядных венчатых тарасных стен с заполнением грунтом пространства между стенами. Крепости с ранее возведенными смыкающимися многорядными стенами продолжа- ли существовать, пока не приходило время реконструкции, в ходе которой сооружалась стена с грунтовой засыпкой. На второстепенных направлениях и в небольших острогах могло продолжаться сооружение однорядных и многорядных смыкающихся тарасных стен.
В распоряжении историков фортификации оказалось довольно мало описаний многорядных смыкающихся венчатых тарасных стен, так как они, во-первых, массово возводились в течение непродолжительного времени и, во-вторых, от второй половины XVI в. до нас дошло значительно меньше подробных описаний фортификационных сооружений в сравнении с XVII веком.
Скупы сведения письменных источников и о высоте внутренних стен. В Кольском остроге их высота составляла два аршина [Кос-точкин, 1958, с. 240]. Над внутренней стеной, вероятно, располагались бойницы. То есть над внутренней стеной возвышалась только голова воина, ведшего стрельбу из пищали через бойницы нижнего боя. Внутренняя стена до нижних бойниц была и в Олонце (1649 г.). Вероятно, она имела ту же высоту, что и в Кольском остроге. В 1670 г. в Олонце внутренняя стена была высотой в одну сажень и, по всей видимости, возвышалась над мостом среднего боя на те же два аршина, защищая гарнизон от пушечной и пищальной стрельбы.
Полученные в ходе исследования выводы о конструктивном устройстве и метрических параметрах венчатых тарасных стен в Русском (Российском) государстве в конце XVI – первой половине XVIII в. могут быть верифицированы и уточнены при введении в научный оборот новых письменных и изобразительных источников, а также новых материалов археологических раскопок.