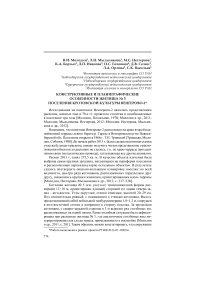Конструктивные и планиграфические особенности жилища № 5 поселения кротовской культуры Венгерово-2
Автор: Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Нестерова М.С., Борзых К.А., Иванова Д.П., Головков П.С., Селин Д.В., Орлова Л.А., Васильев С.К.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья
Статья в выпуске: XIX, 2013 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521976
IDR: 14521976
Текст статьи Конструктивные и планиграфические особенности жилища № 5 поселения кротовской культуры Венгерово-2
Исследования на памятнике Венгерово-2 являлись продолжением раскопок, начатых еще в 70-е гг. прошлого столетия и возобновленных в последние три года [Молодин, Полосьмак, 1978; Молодин и др., 2011; Молодин, Мыльникова, Нестерова, 2012; Молодин, Нестерова, Мыльникова и др., 2012].
Напомним, что памятник Венгерово-2 расположен на краю второй надпойменной террасы левого берега р. Тартас в Венгеровском р-не Новосибирской обл. Поселение открыто в 1966 г. Т.Н. Троицкой [Троицкая, Моло-дин, Соболев, 1980]. До начала работ 2013 г. была сделана магнитная съемка участка будущего раскопа, однако получить четкое представление о расположении объектов до раскопок не удалось, т.к. по краю террасы проходит линия связи (металлические провода), заглушающая все другие аномалии.
Раскоп 2013 г. занял 275,5 кв. м. В качестве объекта изучения была выбрана самая крупная западина, находящаяся на периферии поселения и расположенная перпендикулярно остальным объектам. В результате удалось подтвердить овально-кольцевую планировку поселка: по всей видимости, два-три ряда котлованов, расположенных параллельно друг другу, замыкались крупным жилищем, ориентированным вдоль террасы [Молодин, Нестерова, Мыльникова и др., 2012, с. 237–238].
Котлован жилища № 5 (см. рисунок ) трапециевидной формы размерами 13×10 м, ориентирован длинной стороной по линии северо-запад – юго-восток. Углы округлые, стенки отвесные, высотой 20–29 см. Пол относительно ровный, с понижением к стенкам котлована. Выход, представляющий собой небольшой тамбур размерами 1,0×1,2 м, сооружен в юго-восточной стенке и направлен в сторону поселка. За пределами котлована, с северо-западной стороны в 3 м выявлен ряд столбовых ям, расположенных на одной линии. Ранее подобная ситуация была зафиксирована при раскопках жилища № 3, где аналогичные столбовые ямы интерпретированы как следы навеса, примыкающего к постройке [Молодин и др., 2011, с. 201 ]. Таким образом, можно констатировать, что сооружение
Венгерово-2. План жилища № 5.
1 – нераскопанные участки, занятые деревьями; 2 – ямы; 3 – очаг; 4 – углистые линзы;
5 – место взятия проб угля.
навеса с одной из сторон жилища – конструктивная особенность строений, по крайней мере, на данном поселке.
Расположение котлована на краю террасы на достаточной глубине от современной поверхности (до 1 м) привело к хорошей консервации культурного слоя. При выборке заполнения котлована удалось четко зафиксировать конструктивные особенности постройки: т.к. жилище сгорело, упавшие стропила и деревянная рама сохранились как насыщенночерные линзы с фрагментами углей.
Наличие в центре и у стен жилища многочисленных столбовых ям, а также тщательное изучение сохранившейся деревянной конструкции позволят в будущем осуществить более качественную реконструкцию жилого сооружения. Предварительно можно заключить, что жилище представляло собой каркасно-столбовую конструкцию пирамидальной формы с плоским верхом, стены которой были укреплены мощной «завалинкой» из утрамбованной материковой супеси. Подобные реконструкции выполнены М.П. Грязновым по материалам поселения эпохи бронзы у хут. Ля-пичева [1953, с. 145].
Анализ планиграфического распределения находок на площади помещения, исследованного авторами в 2011 г., позволил выявить особенности внутренней планировки кротовского жилища и наметить несколько основных хозяйственно-производственных зон. Так, состав артефактов, зафиксированных в северо-западном углу, противоположном от входа, свидетельствует об организации здесь бронзолитейного производства. Юго-восточная часть, отличающаяся местонахождением огромного количества крупных фрагментов сосудов со следами ремонта и изготовлением из них керамических изделий, интерпретирована как место вторичной обработки керамики [Молодин, Мыльникова, Нестерова, 2012, с. 91–93; Молодин, Нестерова, Мыльникова и др., 2012, с. 240]. В жилище № 5, несмотря на его иную ориентацию и размеры, наблюдается аналогичная ситуация. В северо-западном участке жилища обнаружены фрагменты составного тигля со следами плавки в нем металла, бронзовые сплески, фрагменты литейных форм, орудия из кости, отщепы со следами ретуши. Юго-восточный угол занят скоплением фрагментов керамики, среди которых выявлены и вторичные изделия – скребки, абразивы, лощила. Таким образом, представляется, что организация внутреннего пространства обуславливалась не ориентацией самого жилища в контексте поселения, а связывалась с различными природными факторами (преобладающая роза ветров, стороны света, источник воды и т.д.).
Состав находок в жилище № 5 практически идентичен материалам раскопок предыдущих лет [Молодин, Полосьмак, 1978; Молодин и др., 2011]. Обращает на себя внимание бережное отношение к каменным артефактам: помимо собственно орудий, зачастую многофункциональных, практически на всех отщепах, даже самых мелких, фиксируются вторичная обработка и следы использования.
В центральной части жилища обнаружен мощный углубленный очаг подпрямоугольной формы, ориентированный параллельно длинным стенам жилища. Размеры очажной ямы (2,3×0,9 м), значительная прока-ленность дна и стен (до 0,1 м), мощность заполнения (0,4 м), фиксация в заполнении огромного количества жженых костей позволяет говорить о долговременности использования очажного устройства и, соответственно, о длительности существования жилища. Впервые в очаге удалось обнаружить бронзовые сплески, что, несомненно, подтверждает предположение об осуществлении плавки металла в пределах жилого комплекса [Нестерова, 2012, с. 115]. Еще одной конструктивной особенностью очага является укрепление северо-западной стенки глиняной обмазкой. Использование глины при сооружении очажного устройства зафиксировано в жилищах кротовского поселения Преображенка-3 [Молодин, 1977, с. 54].
Исследованное жилище отличается от изученных ранее не только большими размерами, но и значительным количеством крупных фрагментов керамики, расположенных вдоль стен. Следует подчеркнуть, что это были не развалы сосудов, а отдельные крупные части фрагментов тулова, возможно, заготовки для изготовления керамических изделий. Отмечено также использование битой керамики для вымостки пола [Там же, с. 51], а также нижней части стен в районах производственных участков.
В плане изучения остеологических остатков показателен объект № 2, где помимо фрагментов керамики, предметов, связанных с бронзолитейным производством и орудиями из камня и кости, было обнаружено 428 костных фрагментов. Удалось определить остатки следующих видов (число костей / минимальное число особей): лесная куница (261/6), соболь (2/1), косуля (5/2), лось (2/1), лошадь (10/2), коза домашняя (16/2). Единичными находками представлены лисица, собака и сайгак. Таким образом, в скоплении 88,3 % определимых костей относятся к пушным зверям: кунице и единично представленным соболю и лисице. Менее представительны дикие копытные – косуля, лось и сайгак (2,7 % в сумме). Из заведомо домашних животных найдены остатки козы (5,4 %) и собаки. Судя по тому, что челюсть лошади принадлежит к молодой особи, ее остатки (3,3 %), возможно, также относятся к домашней форме. Присутствие в этом скоплении челюстей и зубов диких животных может свидетельствовать о каких-либо ритуальных действиях, сопровождавщих процесс плавки металла.
Таким образом, проведенные исследования позволили не только существенно пополнить коллекцию материала, но и уточнить некоторые особенности организации жилого пространства поселка кротовской культуры. Изучение конструкции жилища в свою очередь даст качественно новые выводы о домостроительных приемах населения эпохи развитой бронзы Барабинской лесостепи.
Из проб углей сгоревшей конструкции исследованной постройки в лаборатории ИГМ СО РАН были получены четыре радиоуглеродные даты (см. таблицу ). Все они были прокалиброваны в программе OxCal_3.10
Радиоуглеродные и калиброванные даты поселения Венгерово-2
|
Контекст |
Шифр |
14С-дата, л.н. |
Калиброванная дата, лет до н.э. |
|
|
± 1 сигма |
± 2 сигма |
|||
|
Кв. b/28, h=-90 |
СОАН-9000 |
3360±50 |
1740BC (10,9 %) 1710 BC 1700BC (51,0 %) 1600 BC 1570BC (6,3 %) 1530 BC |
1770BC (95,4 %) 1510 BC |
|
Кв. f/23-24, h=-90 |
СОАН-9001 |
3550±65 |
1980BC (41,9 %) 1860 BC 1850BC (26,3 %) 1770 BC |
2120BC (1,6 %) 2090 BC 2040BC (92,3 %) 1730 BC 1720BC (1,5 %) 1690 BC |
|
Кв. e/23, h=-90 |
СОАН-9002 |
3560±80 |
2020BC (46,6 %) 1860 BC 1850BC (21,6 %) 1770 BC |
2140BC (95,4 %) 1690 BC |
|
Кв. f/24, h=-90 |
СОАН-9003 |
3550±45 |
1960BC (45,1 %) 1870 BC 1850BC (23,1 %) 1770 BC |
2020BC (95,4 %) 1750 BC |
[Reimer et al., 2004]. Суммарная хронология памятника Венгерово-2 по полученным результатам укладывается в промежуток XX–XVIII вв. до н.э. (по ± 2 сигме).