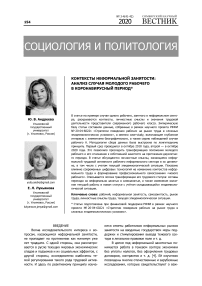Контексты неформальной занятости: анализ случая молодого рабочего в коронавирусный период
Автор: Андреева Юлия Витальевна, Лукьянова Евгения Львовна
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Социология и политология
Статья в выпуске: 3-4 (41-42), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье на примере случая одного рабочего, занятого в неформальном секторе, раскрываются контексты, личностные смыслы и значения трудовой деятельности представителя современного рабочего класса. Эмпирическую базу статьи составили данные, собранные в рамках научного проекта РФФИ № 20-04-60221 «Стратегии поведения рабочих на рынке труда в сложных эпидемиологических условиях», а именно case-study, включающее глубинное интервью с элементами биографического, а также серию наблюдений случая рабочего А. Методология сбора данных была выстроена по лонгитюдному принципу. Первый срез проводился в октябре 2018 года, второй - в октябре 2020 года. Это позволило проследить трансформацию положения молодого рабочего и его отношения к собственной занятости на протяжении двухлетнего периода. В статье обсуждаются личностные смыслы, касающиеся неформальной трудовой активности рабочего неформального сектора в их динамике, в том числе с учетом текущей эпидемиологической ситуации. Показано влияние современных цифровых технологий на изменение контекстов неформального труда и формирование профессионального самосознания «нового рабочего». Описывается логика трансформации его трудового статуса: мотивы перехода из неформально занятых в самозанятые, а также изменение значения текущей работы в новом статусе с учётом складывающейся эпидемиологической ситуации.
Рабочий, неформальная занятость, самозанятость, рынок труда, личностные смыслы труда, текущая эпидемиологическая ситуация
Короткий адрес: https://sciup.org/14117526
IDR: 14117526
Текст научной статьи Контексты неформальной занятости: анализ случая молодого рабочего в коронавирусный период
Волна исследовательского интереса к вопросам, касающимся неформальной занятости, не пропадает на протяжении как минимум уже лет тридцати. С одной стороны, она рассматривается в русле текущих мировых экономических спадов и подъемов и их социальных эффектов, с другой стороны, исследователи озабочены темой регулирования такого рода трудовой активности. И здесь по реактивному принципу изуча- ются ответы работников неформальных рынков занятости на вводимые государством меры поддержки и стимулирования вывода теневого сектора в легальное правовое поле и т. д.
В целом под неформальной занятостью понимается работа в теневом секторе экономики без уплаты налогов, без оформления трудовых договоров, контрактов и т. д. [4]. Её изучению посвящены многие отечественные и зарубежные исследования, которые свидетельствуют о важ- ности этого социально-экономического явления. Неформальную занятость предлагается рассматривать как со стороны экономики, так и со стороны вовлеченных в экономическую деятельность граждан. Несмотря на значительный корпус литературы по данной тематике, тем не менее исследований, касающихся неформальной занятости представителей именно рабочих профессий, на самом деле не слишком много. У нас в стране авторов интересовало развитие гаражной экономики в связи с продолжительным функционированием в отечественной практике ремесленно-промыслового уклада [7], состояние домашнего предпринимательства в связи с процессами трансформации домашнего труда и семейных обменов [5], специфика работы северных артелей, вахтовых бригад и в целом феномен отходничества [6]. Обобщая эти исследования, можно констатировать, что в них неформальная занятость проблематизируется главным образом с точки зрения того уязвимого положения, в котором оказываются непосредственно наёмные работники, не имеющие официального трудоустройства. Тогда как контексты неформальной занятости представителей рабочих профессий в фокусе перспектив развития их предпринимательской активности, а также с точки зрения потенциальной возможности официального становления самозанятыми и дальнейшего выбора рабочими легитимного трудового пути не рассматривались ранее в традициях качественного анализа. Настоящая статья призвана восполнить данный пробел. Её целью является обсуждение личностных смыслов труда людей рабочих профессий, которые заняты в неформальном секторе, и тех изменений (динамики), которые произошли с ними в период пандемии коронавируса.
МЕТОДОЛОГИЯ И ЭМПИРИЧЕСКАЯ БАЗА
В основу статьи легла трудовая биография одного из ульяновских неформально занятых рабочих ( кейс рабочего А. ). Впервые этот респондент принял участие в научно-исследовательском проекте «Повседневная культура рабочей молодёжи в стратегиях жизни и занятости» (грант РФФИ № 17-03-00716-ОГН) в 2018 году. Тогда он в числе прочих респондентов рассказывал об особенностях своей работы и о тех планах, которые им строились по дальнейшему развитию своего неформального бизнеса. Сейчас этот респондент принял участие в научно-исследовательском проекте «Стратегии поведения рабочих на рынке труда в сложных эпидемиологических условиях» (грант РФФИ
№ 20-04-60221). Он был привлечен в экспертную панель для оценки нынешнего положения рабочих, занятых в неформальном секторе. То есть беседа в 2018 году и интервью с тем же респондентом в октябре текущего, 2020 года, позволяет рассматривать случай А. как отдельный кейс, дающий возможность проанализировать развитие и трансформацию взглядов неформально трудоустроенного рабочего на своё дело, раскрыть особенности и изменения этих взглядов в связи с пандемией коронавируса. Кейс рабочего А. — это лишь крайне малая часть самых первых результатов, полученных в ходе реализации проекта 2020 года. Сам проект предполагает три волны проведения полевых исследований (три среза). На текущем этапе проекта в первую волну (сентябрь-октябрь 2020 года) эмпирическую базу по данному проекту составили 100 интервью с рабочими разных видов занятости, 25 интервью с членами их семей, а также 10 экспертных интервью, позволяющих рассмотреть особенности положения рабочих и их семей в условиях складывающейся эпидемиологической ситуации.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАМКИ
В данной статье акцент делается именно на индивидуальной трудовой биографии. На наш взгляд, это удачная теоретико-методологическая находка, соответствующая принципам современного классового подхода [10]. Он особенно актуален в отношении именно рабочих, так как в академическом дискурсе их долго представляли в качестве малообразованных людей, ограниченных в своих культурных запросах. Известная книга Л. Рубин «Миры боли» задала алармистский тон описанию семей из рабочего класса. Их повседневность представлялась как однообразная, скучная, лишённая надежд на успешное будущее [13]. Устойчивости подобного взгляда на рабочий класс способствовало и известное этнографическое исследование П. Уиллиса «Приобщение к трудовой культуре». В нём автор показал молодых из рабочего класса нонконформистами, не соблюдающими дисциплину и грубо ведущими себя с учителями [15]. Сегодня исследователи поменяли такой однозначно негативный вектор оценки, они всё больше задаются вопросами о том, как сами рабочие понимают такие ценностные категории, как благополучие, доверие, счастье, стабильность и т. п. [11, 14]. Да и сам смысл труда и работы сегодня подвергается критическому анализу. Считается, что трудовая биография складывается не только под влиянием объек- тивных экономических факторов, например, состояния рынка труда, но и всего накопленного человеком опыта, сделанных им предыдущих выборов [12]. Если раньше рабочих однозначно причисляли к группам, которые следовали нормативному воспроизводству своей классовой принадлежности, то теперь их биографии также разбираются с точки зрения возникающих выборов, диапазон которых задаётся в том числе текущей ситуацией [9].
АНАЛИЗ И ОБСУЖДЕНИЕ ЭМПИРИЧЕСКИХ ДАННЫХ
Случай трудового пути А. показывает, что для этого молодого двадцатидевятилетнего мужчины его неформальное трудоустройство оказалось своего рода социальным лифтом. Собственная неформальная занятость долгое время считалась им самим лишь фоном для последовательной реализации серии своих «официальных», но коротких трудовых проектов; они не получили дальнейшего развития. Свою неформальную работу А. долго не принимал в качестве основной занятости, а рассматривал лишь как подработку, несмотря на то, что она приносила большую часть его дохода.
Трудовая биография А. началась с его переезда из села в город. В городе он начал свой путь рабочего в одном из коммерческих предприятий по установке окон. Недолго проработав там, он устроился на промышленное предприятие, которое в оценках других наших информантов воспринималось как малопрестижное место работы с точки зрения предлагаемых там условий труда. Продолжая работать на предприятии, А. попробовал устроиться в полицию, но у него не хватило социальных ресурсов (связей). Затем А. перешел на более престижный завод, заняв вакансию в соответствии с уже появившимся у него опытом. И на протяжении его официального трудового пути в качестве «фонового фактора» всегда присутствовало «его любимое дело», которым он занимался неофициально, — парень подрабатывал ремонтом автомобилей и кузовным ремонтом.
Трудовая биография А. по сути представляет собой накопление самых разных профессиональных компетенций, когда человеческим профессиональным капиталом для молодого рабочего становятся не только навыки, полученные в техникуме, училище или во время учебы на производстве, но прежде всего те, что были усвоены по ходу его повседневной жизни. Например, те, что перенимались от родителей: «Отец меня с детства учил старенькие Жигули ремонтировать» или от друзей: «Друг показал, как рихтовку делать». И случай А. — это один из достаточно типичных вариантов попадания молодых рабочих в «неформально занятые»: неофициальные микробизнесы встраиваются в уже реализуемую трудовую стратегию, когда основная занятость, например на заводе, совмещается с тем, что обозначается как хобби: «Возиться с машинами, чинить их — это хобби для меня. На заводе я не готов был столько времени тратить на это, этим заниматься» (А., 2018).
То есть «рабочий путь в неформально занятые» — это не классический (традиционный) вариант траектории трудовой мобильности юноши или девушки: когда через семейные ресурсы и родительский капитал, через материальные возможности жизненный путь строится к образовательным успехам детей и уже далее — к их карьерным достижениям. Информант из нашего кейса, закончив школу в селе, переехал в город с неясными мотивами, хотя родители направляли его на учебу: « Главное, чтоб бюджет, не важно, вуз или средне-специальное учебное заведение », — он вполне рационально отказался от «учебы ради учебы», сразу же ориентируясь на заработки. Таким образом, в контексте его ценностных смыслов выбор им неформальной занятости — это вполне рациональный трудовой выбор.
Начиная с 2015 года его хобби превратилось в основную работу. Он начал арендовать гараж на пару с братом и заниматься кузовным ремонтом, потом к их работе присоединился еще один общий товарищ. Деятельность рабочих-ремонтников автомобилей никак не была оформлена официально:
« Интервьюер: Скажите, когда Вас спрашивают, чем вы занимаетесь, что Вы обычно говорите? Информант: Я говорю, что я безработный ( смеется )» (А., 2018).
« То, чем я занимаюсь, никто не одобряет до сих пор. Папа мне вчера сказал: «Займись чем-нибудь нормальным, это там тебе не подходит». В его понятии, «устройся на нормальную работу, будешь получать пенсию, у тебя будет пенсия там, будет соцпакет, будет всё». А вот, по сути, соцпакет мне чего? В больнице вот по закону флюорографию должны делать свободно везде. Так вот, я пытался сделать, мне нигде не сделали, я её платно сделал в итоге» (А., 2018) .
А. осознавал все риски такой неформальной занятости. Кроме объективных рисков, связанных с отсутствием официального оформления, были и риски, субъективно им переживае- мые. И прежде всего — это неопределенный профессиональный статус, который так или иначе оказывал на парня заметное моральное давление. Конечно, отсутствие официального оформления лишило его социальных гарантий. Вместе с тем, оценивая возможности открытия своего ИП в 2018 году, он говорил об еще большей нагрузке и ответственности, которую он будет нести, если все-таки оформит свою деятельность официально. Во-первых, придётся повысить стоимость своих услуг, чтобы оправдать налоговые отчисления, а это значит, что ему останется значительно меньше пространства для маневрирования среди конкурентов. Во-вторых, как официально оформленный предприниматель, он должен будет отвечать всем своим имуществом в случае разногласий с клиентом, а парень вовсе не был к этому готов, ведь на его попечении была семья с ребенком и женой, находящейся в декретном отпуске.
Дополнительно стоит отметить психологические и экономические риски, которые нёс рабочий А. в связи со своей неформальной занятостью. Они связаны прежде всего с тем, что в таких условиях особенно пристального внимания от него требовал контроль собственных доходов и расходов. Его зарплата была накопительного характера, она складывалась из количества заказов и зависела от того, каким по стоимости сегодня окажется взятый заказ. То есть его работа представляла собой по сути многократно повторяемый цикл: зарабатывание — разделение и распределение средств на текущие потребности — и снова зарабатывание. Этот цикл, определяемый как постоянное накопление на ряд обязательных нужд (оплата еды, жилья, детского сада и проч.), — сам по себе психологически сложно проживаемый процесс. И когда на этот цикл «накопительного зарабатывания» накладывается дополнительно и ипотечный сценарий, то это еще больше увеличивает психологическую нагрузку: « Смогу ли я сегодня заработать, чтобы завтра заплатить за ипотеку? ». Это ведёт за собой специфическое структурирование времени и трудовой активности: надо успеть найти и выполнить столько заказов, чтобы можно было справляться с выплатами. В свою очередь, это привязывает неформально занятого рабочего к определенному образу жизни (« Сначала копим на ипотеку, потом копим на нужды ребенка, на садик, на прописи… ») и создает невозможность выйти за его рамки.
С одной стороны, новое поколение рабочих готово и сознательно идёт на такой дисбаланс жизни и труда сейчас, объясняя это тем, что молодость стоит посвятить неустанной работе для обеспечения как своей будущей жизни, так и благополучия детей [2]. Но, с другой стороны, они отмечают высокую значимость ценности свободы, для них важен индивидуальный график работы и возможность управлять своей повседневной занятостью [3]. Поэтому, с одной стороны, наш информант не мог себе позволить заболеть («Нам болеть нельзя, у нас ипотека»), ему нежелательны были простои в работе, отсутствие заказов, паузы для отдыха («Никогда не был в отпуске»), смена места жительства, потому что иначе его жизненное пространство подвергнется риску. Но, с другой стороны, и это оказалось особенно интересной исследовательской находкой, такое состояние неопределенности не воспринималось нашим информантом как-то особенно проблематично («Весь микрорайон в ипотеке, все так живут», — говорил он в том смысле, что его образ жизни — не самый худший).
Так у неформально занятых рабочих формируются свои контексты стабильности. И её на заводе, по рассуждениям информанта, может оказаться гораздо меньше, чем в гараже: « Проработав на заводе, мне стало понятно, что стабильности там гораздо меньше, чем я вот в гараже работаю, потому что сегодня они сокращают, завтра набирают, сегодня есть заказы, там нет заказов, две третьих, еще какую-нибудь фигню выдумают. Поэтому там стабильности, по-моему, меньше, чем у меня. То есть я зарабатываю, я знаю, сколько я заработаю, я по-любому заработаю. Нет того, что интересно в плане заработка, я возьму что-нибудь просто не сильно выгодное, но я всё равно заработаю. То есть семья у меня голодной не будет в любом случае » (А., 2018).
Стабильность прочитывается сегодня «новыми рабочими» [1] как устойчивая профессиональная востребованность. Сегодня мы утверждаем, что такая позиция в полной мере отвечает современным ценностным ориентациям нового поколения рабочих: им важно «быть на движе» — ценностный маркер, который в индивидуальном смысле означает «быть актуальным, быть в тренде», в том числе и в трудовой жизни. Это не только постоянный поиск новых возможностей заработка и не только управление своей трудовой активностью, но и освоение новых компетенций, расширение уже имеющихся навыков, выбор актуальных форм коммуникации и репрезентации. К слову сказать, информант А. в 2018 году начал активно развивать цифровые каналы по продвижению своих услуг — вел страничку в социальных сетях, куда выкладывал самые оригинальные и яркие работы и подумывал над созданием собственного YouTube-канала.
Еще одним важным маркером стабильности в субъективном контексте данного случая был видимый горизонт планирования своей трудовой занятости, который информант четко озвучивал в 2018 году. Тогда он вполне отчетливо видел перспективы развития своего дела. Его ближайшим горизонтом планирования было расширение спектра предлагаемых услуг за счет дополнительного открытия мойки машин, увеличения потока заказов и дальнейшей официальной регистрации. А более отдаленный горизонт — «организовать все так, чтобы работало без меня», и помимо кузовного ремонта автомобилей после ДТП информант рассчитывал заняться детейлингом после прохождения своеобразного «повышения квалификации», стажировки у более опытных мастеров в столичном городе:
« Я хотел бы поставить вот это всё нормально на колеса, чтоб это всё работало без меня, а потом просто чем-то еще попробовать заняться, заниматься попутно. Может быть связано как-то с этим же, чем занимаюсь уже… вот в этой сфере автомобильной, в сфере услуг… Есть такая тема, детейлинг, то есть автомобиль доводят до состояния нового, то есть б/у-шный автомобиль. Вот можно этим заняться, то есть можно научиться, этому обучают, и этим заниматься, зарабатывать попутно денег еще этим… У нас не обучают. Знаю, обучают в… (называет город). Тоже ребята такие же, как мы, там работают, что-то по типу, я не знаю, как это всё, я смотрел просто у них видео на YouTube » (А., 2018) .
Каким же мы застали информанта А. сейчас, в октябре 2020 года? Что произошло с его занятостью, взглядами и индивидуальными смыслами его работы? Можем ли мы заметить их изменения? И если да, то какие из них продиктованы обстоятельствами коронавирусной пандемии?
Сейчас А. по-прежнему занимается тем же, чем и занимался, — продолжает работать по профилю починки автомобилей и кузовного ремонта. Работает он в том же месте и почти с тем же составом работников. Содержание его работы, по его словам, никак не поменялось, и он как получал заказы, так и продолжает их получать. Пандемия почти не сказалась на его работе, потому что его взаимодействие с клиентом бесконтактное.
« Немножко заказы упали в феврале-марте, но у нас работы не убавилось, есть всякие перекупы, таксисты, позвонишь, и они будут. То есть так, чтобы нет работы, — такого не бывает. Стали (в апреле-мае. — Ю. А. ) просто меньше звонить и меньше приезжать, но кому-то я сам отказывал, потому что тут непонятно, что было, — они все продлевают, продлевают и продлевают (режим самоизоляции. — Ю. А. ) . И потом немного тут проблемы с запчастями начались. Что-то, конечно, на складах было, но вот май-июнь запчастей было прям мало. Границы закрыты, запчасти никто не возит, у нас нет запчастей. Некоторые станции вообще перестали работать, так как они работают только с новыми запчастями, а мы очень много восстанавливаем, поэтому у нас работа всегда была, клиенты были » (А., 2020).
Спрос на услуги и поток клиентов у А. постепенно рос с 2018 года, вышел на устойчивый в 2019 году и практически не прерывался в 2020 году. Этому поспособствовали главным образом налаженные коммуникационные каналы, по которым мастерскую находят клиенты. Как уже упоминалось выше, два года назад А. начал вести активную работу в социальных сетях, продвигая свои услуги по кузовному ремонту. Благодаря этому в течение двух лет его оборот постепенно увеличивался. И сейчас дело поставлено так, что клиенты встают в очередь и ожидают, когда «освободится местечко», то есть он имеет свой «клиентский задел» и как минимум на месяц вперед планирует то, чем именно будет заниматься. В период самоизоляции весной и протекания коронавируса первой волны это стало для микробизнеса А. своеобразной «подушкой безопасности»:
« У нас народу не убавилось никак. Если бы кто-то позвонил, пришел ко мне и сказал — я не буду ремонтироваться, я бы сказал — слава богу, я устрою себе наконец-то выходной » (А., 2020).
На момент второго интервью с А. (октябрь 2020 г.) поток клиентов полностью вернулся на стадию «докоронавирусного» периода:
« Клиенты звонят круглыми сутками, и я вот в 9 часов телефон без звука ставлю, иначе просто покоя не будет… Сейчас всё подряд не берем, как раньше, выбираю заказы, что поинтереснее, самые такие интересные работы. Машин выстраивается на пару месяцев вперед. Если сейчас брать все подряд, сколько людей звонит, то можно, наверное, этот цех раза в два увеличить и работать » (А., 2020) .
Развитию его клиентской базы во многом помогли цифровые средства коммуникации и прицельная работа А. с ними на протяжении двухлетнего периода. За это время его социальные сети серьезно продвинулись, а YouTube-канал, который он все-таки начал развивать, вполне окупился. Ему удалось монетизировать все свои цифровые каналы, и сейчас он неплохо зарабатывает в том числе и на рекламе:
« Ролики могут принести и 18 тысяч в месяц, а могут и ничего не принести, там же как, настраиваешь монетизацию… Но если взять даже по среднему, сейчас скажу, сколько заработал… 126 тысяч за год… это примерно около 10,5 тысяч в месяц. Хороший приработок, я считаю, и постоянно, — больше смотрят, и это постоянно увеличивается только » (А., 2020) .
Поэтому сейчас он стал значительно серьезнее подходить к выбору контента и больше времени уделять своему присутствию в профессиональном онлайн-поле: « Даже если всё закроется из-за коронавируса и вообще никак нельзя будет работать, я сяду дома и буду ме-сяц-два ролики монтировать… но потом все равно выйду работать » (А., 2020) .
Как мы видим, поменялось отношение А. к цифровым средствам коммуникации. Сейчас он воспринимает их не просто как возможность для размещения объявлений с предложением услуг, но и как способ подработки. К слову, работая в 2015 году на заводе, он примерно так же оценивал и своё увлечение ремонтом автомобилей. Кроме того, теперь цифровые возможности являются для него еще и местом профессиональной самореализации. Еще недавно он никак не думал о том, что может стать образцом и своего рода учителем для начинающих автомехаников, он даже сам собирался поехать подучиться новым способам рихтовки автомобилей в другом крупном городе у более продвинутых мастеров, чем он сам. Но его собственный цифровой успех показал, что его навыки и умения вполне могут быть признаны среди профессионалов, и он сам уже заслуживает статуса мастера. То есть у нашего информанта А. поменялось еще и его внутреннее профессиональное самоощущение. Сформировался целостный образ себя как профессионала, то есть оформилось его профессиональное самосознание. Несмотря на то, что свою работу он по-прежнему воспринимает и как работу, и как хобби, он продолжает ей «гореть» и переживать за нее: « У меня постоянно что-то новое » . Его «карьерный потолок», очевидно, всё еще не достигнут, а профессиональное выгорание, даже несмотря на текущую атмосферу беспокойства в связи с коронавирусом, ему не грозит.
Но главное изменение его профессиональной жизни оказалось связано со сменой его трудового статуса: в июле 2020 года рабочий А. оформился как официально самозанятый. Эта дефиниция пока еще не устоялась в академической литературе и имеет множественные толкования. Понятия «самостоятельно обеспечивающие себя работой» в европейских странах и «самостоятельно занятые» в российском законодательстве различны. Если первое охватывает весьма широкий круг лиц — от крупных предпринимателей до кустарей-ремесленников, то второе сводится в основном к мелкому или, точнее, мельчайшему бизнесу в его европейской трактовке. В российских программах занятости речь идет о возможной самостоятельной занятости в индивидуальном пошиве одежды, обуви, изготовлении мебели, авторемонтных мастерских и т. п. Таким образом, наше понятие «самозанятые» примерно совпадает с понятием «мелкое предпринимательство» в европейских странах. Случай нашего информанта А. показывает, что его новый статус самозанятого оставил прежним не только содержание его работы, но и его самоощущение от неё: « Что это мне дало? Да ничего не дало, 3 % просто плачу, да и всё » (А., 2020) .
Однозначно сказать, что история его официального оформления связана с пандемией, мы всё же не можем, даже несмотря на то, что изменение в трудовом статусе случилось с ним в июле 2020 года. Скорее такой переход имеет отношение к предпринимаемым государством мерам и усилению контроля со стороны проверяющих структур:
«Мы, помните, когда говорили в последний раз, мы все не были оформлены никак, и так нам было проще, потому что проблем никаких не было. И примерно год назад пришла налоговая, причем они там обход делали по кооперативам, а мы как бы не входим, но к нам тоже зашли, т. е. они ко всем пришли, у них рейды были: «О, ребят, вы здесь как работаете, и вы не оформлены. Надо вам кому-то хотя бы одному оформиться». Короче, брат тогда оформил на себя ИП. Прошло еще какое-то время, может полгода, они пришли снова, причем он просто зашел, там три года же они не могут приходить снова: «О, ребят, вот будет когда там рейд, если вдруг, вас оштрафуют, потому что один оформлен, а вы все не оформлены». Это он в феврале 20-го года пришел. А потом начался коронавирус, вся эта фигня закончилась, ходить они не могут, — коронавирус, проверять не могут. Внезапных проверок не может быть, а так, планово, они тоже не могут, они должны предупредить, то, что мы придем вот в такой-то день. Да там и так понятно, что на такую площадь, на такое число автомобилей один человек работать не может. И мы дождались, когда в июле поменялся налоговый режим, как можно оформиться как самозанятые. И вот мы оформились все как самозанятые, т. е. придешь к нам, и мы каждый сам за себя, каждый делает по машине и платит 3 %. Ничего нам это не дало, просто платим по 3 % и всё, но если придут к нам, мы вот покажем, что самозанятые» (А., 2020).
В этом изменении статуса А. все же находит больше позитивного для себя и своей работы. Новый статус структурировал его деятельность, сделал проще по сравнению с ИП бухгалтерию: « Это офигенно. Приложение « Мой налог » , все здесь, вот чек, вот пришли деньги, вот налог 6 % юр. лицу, вот3 % физ. лицу» (А., 2020) .
В этом смысле, как считает наш информант, «объективной стабильности» у него прибавилось. Он стал более устойчиво себя чувствовать, не опасаясь, что к нему «нагрянут с проверкой». Но в субъективных смыслах стабильности заметны определенные трансформации. С одной стороны, сейчас он значительно более уверен в своей профессиональной востребованности: цикл «накопительного зарабатывания» 2018 года сменился на планируемый «опережающий заработок» в 2020 году, поскольку «сейчас машины в очереди стоят на два-три месяца вперед». Но, с другой стороны, горизонт планирования его собственной жизни и жизни его семьи стал значительно уже. Пандемия заставляет все же с осторожностью подходить к оценкам будущего и построению прогнозов на дальнейшую жизнь. Его высказывания о работе и семье здесь очень аккуратны: « Пока я буду работать так… менять ничего не планирую, никуда уходить в другую профессию тоже...», «Пока не понятно, что дальше будет и как будет, как отразится этот вирус, потому что он же не изучен, да, трудно сказать поэтому, что будет. Жена хочет вот ляльку, а я боюсь, а если заболеет, как тогда?» (А., 2020). Можно констатировать, что текущая эпидемиологическая ситуация, неясный сценарий её развития законсервировали не только его собственную работу, но и планы на жизнь семьи в целом. Сейчас всё, что он может себе позволить, — это «двигаться маленькими шажками», не строя каких-то грандиозных планов по расширению своего бизнеса. И в его приоритетах — подобрать себе подходящего работника в команду:
« Я хочу найти себе ученика. Не могу никого найти, никто не хочет работать, как будто никому не нужны деньги… Все плачутся, что нет денег, все плохо, в стране все плохо, а по мне все нормально, просто никто не хочет работать. Я бы даже студента взял какого-нибудь двоечника, но они не хотят так работать, хотят, чтобы в офисе. Тяжело найти человека, который хотел бы зарабатывать деньги. То есть они все хотят легких денег. Не хотят они учиться. Вот вроде бы пришел человек 37 лет, но его уже и учить сложно, он старше, он не слушает, и послушаешь его вообще — у него и никаких амбиций нет и желаний. Раньше я думал, что сложно найти работу, а оказывается, не работу найти сложно, а людей, с которыми ты вместе ее будешь делать » (А., 2020) .
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рабочие, занятые сегодня в микробизнесах, вне зависимости от статуса своей занятости (неформальное трудоустройство или самозанятость), давая оценки своей работе, оперируют понятием стабильности. Её субъективные ценностные интерпретации определяют индивидуальные смыслы работы в каждом конкретном случае.
Преимущества для рабочих видятся прежде всего в максимально быстром достижении показателей «жизненного успеха»: можно жениться, рожать ребенка, сохраняя при этом комфортный уровень потребления и образ жизни. Выбирая неформальное трудоустройство или самозанятость, не обязательно получать формальное образование, искать для этого лишние деньги и время. Этот трудовой выбор дает возможность относительно скорого достижения всего того, что формирует актуальные представления об успехе у молодежи, и даёт возможность непролонгиро-ванного эффекта жизни.
На региональном рынке труда смена статуса неформально занятого рабочего на самозанятого может рассматриваться как позитивный профессиональный сценарий. Состояние регионального рынка рабочих профессий сегодня таково, что самозанятость, несмотря на все ее риски, является для рабочих достаточно привлекательной нишей, в том числе за счет субъективного понимания ценности стабильности. При всех осознаваемых рисках, на взгляд молодых рабочих, самозанятость с курсом на предпринимательство — это то перспективное направление для них, в котором удачно будут сочетаться хороший доход, их рабочие компетенции и управляемый график работы.
Список литературы Контексты неформальной занятости: анализ случая молодого рабочего в коронавирусный период
- Андреева Ю.В. Рабочий класс в России: поиск новых векторов дифференциации / Ю.В. Андреева, Е.Л. Лукьянова // Социологические исследования. -2018. -No 10.-С. 54-65. -URL: https://ras.jes.su/socis/ s207987840001373-9-1.
- Андреева Ю.В. Между работой, детьми и торговым центром: баланс жизни и труда в семьях молодых российских рабочих / Ю.В. Андреева, Е.Л. Лукьянова // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. -2019. -No3. -С.112-131. -URL: https://doi.org/10.14515,https://www.monitoringjournal.ru/index.php/monitoring/article/view/620.
- Андреева Ю.В. Контексты формирования профессиональных компетенций у рабочей молодежи: завод, вахта, "гараж" / Ю.В. Андреева, Е.Л. Лукьянова // Социологические исследования. -2020. -No 4. -С. 105-116.
- Кутаев Ш.К. Теневая занятость как способ выживания / Ш.К. Кутаев // Российское предпринимательство. -2007. -Т. 8, No 9. -С. 172-176.
- Неформальная экономика в российских домохозяйствах в первой половине 2000-х: домашний труд, агро-производство и межсемейные трансферты / Е. Гладникова, М. Нагерняк, Я. Рощина, А. Сухова; отв. ред. сер. В.В. Радаев; Нац. исслед. ун-т "Высшая школа экономики", Лаб. экон.-социол. исслед. -М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. -220 с.
- Плюснин Ю. М. Отходничество как новый фактор общественной жизни / Ю. М. Плюснин, А. А. Позаненко, Н. Н. Жидкевич // Мир России. Социология. Этнология. -2015. -No 1. -URL: https://cyberleninka.ru/article /n/othodnichestvo-kak-novyy-faktor-obschestvennoy-zhizni (дата обращения: 30.10.2020).
- Селеев С.С. Гаражники: монография / С.С. Селеев, А.Б. Павлов; науч. ред. С.Г. Кордонский. -М.: Страна Оз, 2016.
- Хаустов Д.С. Гаражники: дым промежуточной техники и зеркала социологических концепций / Д.С. Хаустов // Мир России. -2018.-No27(3). -С. 198-210. -URL:
- DOI: 10.17323/1811-038X-2018-27-3-198-210
- Уокер Ч. Класс, гендер и субъективное благополучие на новом российском рынке труда: жизненный опыт молодежи в Ульяновске и Санкт-Петербурге / Ч. Уокер; пер. с англ. М. Ворона // Журнал исследований социальной политики. -2012. -Т. 10, No 4. -С. 521-538.
- Atkinson W. Class, Individualization and Late Modernity. In Search of the Reflexive Worker. - Basingstoke: Palgrave, 2010.
- Casey E. (2008) Working Class Women, Gambling and the Dream of Happiness // Feminist Review, N 89, p. 122- 137.
- Lande F. de. (2007) Becoming One Self: A Critical Retrieval of "Choice Biography" // Journal of Reformed Theology, N 1, p. 272-293.
- Rubin L. B. (1976) Worlds of Pain: Life in the Working Class Family. N. Y.: Basic Books.
- Saatcioglu B., Ozanne J. L. (2013) Moral Habitus and Status Negotiation in a Marginalized Working-Class Neigh borhood // Journal of Consumer Research, Vol. 40, N 4, p. 692-710.
- Willlis P. E. (1977) Learning to Labour: How Working Class Kids Get Working Class. Farnborough: Saxon House.