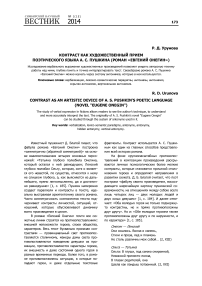Контраст как художественный прием поэтического языка А. С. Пушкина (роман «Евгений Онегин»)
Автор: Урунова Раиса Джавхаровна
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 1 (15), 2014 года.
Бесплатный доступ
Исследование вербального выражения художественных произведений позволяет увидеть авторскую технику работы над ними, глубже понять и точнее интерпретировать текст. Своеобразие романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» можно изучать через систему антонимов, которые в нем используются.
Вербализация, лексико-семантические парадигмы, антонимы, антонимия, скрытая антонимия, вертикальная антонимия
Короткий адрес: https://sciup.org/14113879
IDR: 14113879
Текст научной статьи Контраст как художественный прием поэтического языка А. С. Пушкина (роман «Евгений Онегин»)
Известный пушкинист Д. Благой пишет, что фабула романа «Евгений Онегин» построена «симметрично (обратной симметрией)» на основе взаимоотношения четырех основных персонажей: «Татьяна глубоко полюбила Онегина, который остался к ней равнодушен; Ленский глубоко полюбил Ольгу, которая, хотя и является его невестой, по существу, относится к нему не слишком глубоко, а, как выясняется из дальнейшего, прямо легкомысленно, да и достаточно равнодушно» [1, с. 185]. Пушкин намеренно создает параллели и контрасты в тексте, идеально выстраивая архитектонику своего романа. Часто симметричность компонентов текста подчеркивает контрасты личностей, ситуаций, отношений, которые обусловливают динамику всего произведения в целом.
В романе «Евгений Онегин» почти все сюжетные линии строятся на противопоставлениях: внешней непохожести героев, слоев общества, характеров. Весь текст буквально пронизан контрастами — провинциальный свет противопоставляется столичному, манеры дамы света противопоставляются поведению девушки из провинции, противопоставляются характеры героев, их внешность и даже состояния одного героя в разные временные периоды. Более того, в романе противопоставлены ситуации, в которые попадают герои, и даже отдельные текстовые фрагменты. Контраст используется А. С. Пушкиным как один из главных способов представления всей истории романа.
На фоне крупномасштабных противопоставлений в композиции произведения раскрываются личные психологические более мелкие контрасты, которые становятся причиной столкновения героев и определяют направления в развитии сюжета. Д. Б. Благой считает, что поэт построил «фабулу своего произведения, воссоздающего широчайшую картину пушкинской современности, на отношениях между собою всего лишь четырех лиц — двух молодых людей и двух юных девушек» [1, с. 184]. И далее отмечает: «Оба молодых героя не только подчеркнуто контрастны, но и прямо противоположны друг другу». Но и: «Обе молодые героини также противоположны друг другу и по наружности, и по характеру» [1, с. 185].
Онегин — Ленский
Они сошлись. Волна и камень, Стихи и проза, лед и пламень Не столь различны меж собой… (2, XIII)
Ольга — Татьяна
Ольга: В глуши, под сению смиренной, Невинной прелести полна,
В глазах родителей, она
Цвела как ландыш потаенный. (2, XXI)
Татьяна: Дика, печальна, молчалива,
Как лань лесная, боязлива, Она в семье своей родной Казалась девочкой чужой. (2, XXV)
В вербализации композиционных и образных контрастов А. С. Пушкин использует все типы антонимов, известных в языкознании, и использует их оригинально, авторски, в некоторых случаях как основное средство выражения сюжетных линий. Тип антонимов в тексте романа точно отражает характер отношений героев, например Татьяны и Ольги, Ленского и Онегина, Татьяны и Онегина.
Вводя в роман юных героинь, Пушкин сразу же привлекает внимание к их непохожести: Ольга — белокурая, голубоглазая, веселая, резвая, грациозная, ласковая; Татьяна же — бледная, печальная, молчаливая, замкнутая, задумчивая. Для передачи контрастной внешности сестер поэт использует тип антонимии, который В. А. Иванова охарактеризовала как самый распространенный в речи [2]. Этот тип вербального выражения контраста заключается в использовании отрицательных частиц не , без с одним из компонентов антонимической пары слов. Такие антонимы считаются «симметричными», «параллельными».
Итак, она звалась Татьяной.
Ни красотой сестры своей, Ни свежестью ее румяной
Не привлекла б она очей. (2, XXV)
Описывая Татьяну через отрицание черт Ольги, поэт создает сразу два портрета, противоположных по внешности и характеру героинь. Ольга — красивая, Татьяна — невзрачная; Ольга — румяная, Татьяна — бледная. В данном случае используется так называемая скрытая антонимия, поскольку из каждой антонимической пары в тексте репрезентируется только один компонент. После описания Ольги А. С. Пушкин замечает:
Движенья, голос, легкий стан, Все в Ольге… но любой роман Возьмите и найдете верно Ее портрет: он очень мил, Я прежде сам его любил, Но надоел он мне безмерно.
Позвольте мне, читатель мой,
Заняться старшею сестрой. (2, XXIII)
Ссылка на типичность Ольги позволяет Пушкину опустить ту часть лексико-семанти- ческой парадигмы, в которой должно содержаться ее более детальное описание. Она — типична, ее характер, внешность всем хорошо известны. Нет нужды еще раз описывать ее. Но почему эта героиня таким образом введена в текст? «Образ Ольги оттеняет собой, делает более рельефным контрастный ей образ старшей сестры — Татьяны» [1, с. 187]. Выраженный антонимами контраст Татьяны с Ольгой — прием, который позволил автору ненавязчиво подчеркнуть особенность главной героини и свое трепетное отношение к ней.
Скрытая антонимия используется А. С. Пушкиным при сравнении своей героини и среднестатистической женщины света.
Она была нетороплива,
Не холодна, не говорлива, Без взора наглого для всех, Без притязаний на успех, Без этих маленьких ужимок, Без подражательных затей.
Если в приведенном фрагменте текста убрать отрицательные частицы, то проявится «теневой портрет» дамы света, от которой так выгодно, по мнению автора, отличается его героиня. Обращает на себя внимание употребление в данном тексте указательного местоимения этих («Без этих маленьких ужимок»), которое обычно используется для прямого указания. А. С. Пушкин не объясняет, каких этих , так как совершенно уверен, что любому читателю понятно, что речь идет о примелькавшихся всем манерах дам.
Контрасты характеров, выраженные скрытыми антонимами, не имеют в романе развития, хотя, безусловно, важны для сюжета. Ольга и Татьяна непохожи друг на друга, но эта несхожесть непосредственной роли в их отношениях и в событиях романа не сыграла. Таким образом, напрашивается вывод — Пушкин неслучайно в средствах вербального выражения завуалировал этот контраст.
Кардинально иначе подобраны средства для вербализации контраста между Онегиным и Ленским. Эта открытая, подчеркнуто крайняя противоположность характеров становится причиной острого конфликта, и выражается она ярко, броско. Основным средством ее текстовой репрезентации стали параллельные лексикосемантические парадигмы, состоящие из горизонтальных признаковых антонимов. А. С. Пушкин использует разнокорневые слова (волна и камень, стихи и проза, лед и пламень и др.), которые после его романа вошли в состав литера- турного русского языка как антонимы. Контекстные антонимы, представляющие героев, подчеркивают несовместимость характеров, умов, темпераментов. Этот контраст становится причиной трагической развязки отношений между героями.
Онегин: Он по-французски совершенно
Мог изъясняться и писал;
Легко мазурку танцевал
И кланялся непринужденно;
Чего ж вам больше? Свет решил,
Что он умен и очень мил. (1, IV)
Ленский: По имени Владимир Ленский,
С душою прямо геттингенской, Красавец, в полном цвете лет, Поклонник Канта и поэт.
Он из Германии туманной
Привез учености плоды,
Вольнолюбивые мечты,
Дух пылкий и довольно странный, Всегда восторженную речь
И кудри черные до плеч. (2, VI)
Лексико-семантические парадигмы, репрезентирующие Онегина и Ленского, в тексте расположены дистактно в разных главах. Автор сводит героев в одной точке пространства романа и описывает их сближение как связь несовместимых, взаимоисключающих сущностей. Предварительно Пушкин готовит читателя к этому сближению героев, объясняет, что его инициатором был Ленский, а затем сообщает: Они сошлись . Лексема сошлись употреблена здесь явно неслучайно. Она используется в значении: достигнуть одновременно какого-н. места, как, например: сошлись два борца или два войска . Эта семантика определяется следующим далее текстом:
Волна и камень,
Стихи и проза, лед и пламень
Не столь различны меж собой. (2, XIII)
Строфа раскрывает характер отношений Онегина и Ленского — между ними не может быть гармонии. В конечном счете надменный ум одного и пылкость другого привели их к трагедии.
Контраст характеров Татьяны и Онегина вербализуется в романе особенно крупными лексико-семантическими парадигмами, расположенными дистактно.
Татьяна скучает по деревне, находясь в столице:
Что в них? Сейчас отдать я рада <…> за дикий сад,
За наше бедное жилище,
За те места, где в первый раз,
Онегин, видела я вас. (8, XLVI)
Онегин скучает по светской жизни, находясь в деревне:
Два дня ему казались новы
Уединенные поля,
Прохлада сумрачной дубравы, Журчанье тихого ручья;
На третий роща, холм и поле
Его не занимали боле. (1, LIV)
С некоторыми оговорками в качестве антонимических лексико-семантических парадигм можно рассматривать письмо Татьяны к Онегину и письмо Онегина к Татьяне. Противопоставление текстов этих писем отмечено и в труде пушкиниста Д. Благого «Мастерство Пушкина» [1]. Ученый подчеркивает параллельную «противопоставленность» отношений Татьяны и Онегина: в начале романа Татьяна влюблена в Онегина, пишет ему письмо, Онегин отчитывает Татьяну; в конце романа Онегин влюблен в Татьяну, пишет ей письмо и выслушивает ее упреки [1, с. 196]. Например, Татьяна заканчивает свое письмо словами:
Кончаю! Страшно перечесть.
Стыдом и страхом замираю.
Но мне порукой ваша честь,
И смело ей себя вверяю. (3, XXXI)
Онегин свое письмо заканчивает очень похожими выражениями:
Но так и быть: я сам себе
Противиться не в силах боле.
Все решено: я в вашей воле
И предаюсь моей судьбе. (8, XXXII)
Благой Д. отмечает, что при сравнении писем Татьяны к Онегину и Онегина к Татьяне А. С. Пушкин достигает «зеркально перевернутой симметрии» намеренными текстуальными совпадениями с изобилием контекстуальных антонимов. Татьяна подчеркнуто использует в своей отповеди слова Онегина, которыми он отчитывал ее: «ˮУчитесь властвовать собойˮ, — проповедовал Татьяне Евгений. Теперь она возвращает ему этот “урокˮ:
Как с вашим сердцем и умом
Быть чувства мелкого рабом ?» [1, 196].
«Зеркально перевернутая симметрия» достигается разнообразными контрастами опорных моментов романа, вербализованных антонимическими рядами:
Татьяна: дика, печальна, молчалива, Задумчивость ее подруга, русская душою…
Ольга: Авроры северной алей и легче ласточки, свежестью румяной, Невинной прелести полна, Цвела как ландыш…
Ленский: Он пел любовь, песнь его ясна, Душа воспламенилась в нем, возвышенные чувства, священные друзья, приветом друга, лаской дев…
Онегин: жестокая хандра , скука, Преданный безделью , томясь душевной пустотой , Дожив без цели и трудов до двадцати шести годов, порядка враг и расточитель…
Татьяна: Но мне порукой ваша честь,
И смело ей себя вверяю…
Онегин: я в вашей воле, И предаюсь моей судьбе .
Изучение вербального выражения характеристик героев романа показало, что А. С. Пушкин не только строит на контрасте отношения между разными людьми, но и противопоставляет свою главную героиню самой себе в разные временные периоды. Если в начале романа Татьяна была «девушкой несмелой, влюбленной, бедной и простой », то при второй встрече с Онегиным она — « неприступная богиня роскошной царственной Невы». Но Пушкин открывает читателю, что вторая Татьяна — это лишь новый имидж первой Татьяны. Поэт устами самой героини отмечает контраст ее душевного мира с этим новым и, в общем-то, очень внешним для нее образом. Она обижена, что Онегин выбирает его, вновь не увидев и не оценив ее настоящей человеческой сути.
Тогда — не правда ли? — в пустыне,
Вдали от суетной молвы,
Я вам не нравилась… Что ж ныне
Меня преследуете вы?
Зачем у вас я на примете?
Не потому ль, что в высшем свете
Теперь являться я должна:
Что я богата и знатна,
Что муж в сраженьях изувечен,
Что нас за то ласкает двор?
Не потому ль, что мой позор
Теперь бы всеми был замечен И мог бы в обществе принесть Вам соблазнительную честь? (8, XLIV)
Для того чтобы полюбить Татьяну, Онегину необходимо было встретить ее «не этой девочкой несмелой». Пушкин устами Татьяны дает понять, что если бы Онегин вновь увидел ее не в пышной, блистательной раме великосветских салонов и в искусственной атмосфере светского «блеска, и шума, и чада» (которая так «постыла» самой Татьяне и которую она считает «ветошью маскарада»), а встретился с ней в прежней деревенской обстановке; если бы перед ним предстала не «величавая богиня», а явился «бедный простой облик девчонки нежной», то он снова остался бы равнодушным. Антонимия, актуализирующая разные состояния одного героя, может быть определена как вертикальная, временная, так как противопоставленные типы появляются в романе хронологически последовательно. Это открытая антонимия, хотя и не подчеркнутая. Этот контраст оказал влияние на отношения и судьбы героев, но не явился трагическим.
Правомерен вывод, что своеобразие романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» можно изучать еще и через систему антонимов, которые в нем используются. И в заключение интересно отметить: несмотря на то что весь текст романа пронизан контрастами, для выражения которых А. С. Пушкин использует самые разнообразные типы контекстуальных антонимов, в нем крайне редко встречаются лексические языковые антонимы.
-
1. Благой Д. Б. Мастерство Пушкина. М. : Советский
писатель, 1955. 267 с.
-
2. Иванова В. А. Антонимия в системе языка. Кишинев, 1982.
-
3. Левковская К. А. Теория слова, принципы ее построения и аспекты изучения лексического материала. М. : Высш. шк., 1962. 296 с.
-
4. Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста, структура стиха. Л., 1972.
-
5. Парандовский Я. Алхимия слова. М. : Прогресс, 1972. 335 с.
-
6. Пушкин А. С. Евгений Онегин. М. : Айрис-пресс, 2005. 399 с.
-
7. Тимофеев Л. И., Венгров М. П. Краткий словарь литературоведческих терминов. М. : Учпедгиз, 1963. 192 с.
Список литературы Контраст как художественный прием поэтического языка А. С. Пушкина (роман «Евгений Онегин»)
- Благой Д. Б. Мастерство Пушкина. М.: Советский писатель, 1955. 267 с.
- Иванова В. А. Антонимия в системе языка. Кишинев, 1982.
- Левковская К. А. Теория слова, принципы ее построения и аспекты изучения лексического материала. М.: Высш. шк., 1962. 296 с.
- Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста, структура стиха. Л., 1972.
- Парандовский Я. Алхимия слова. М.: Прогресс, 1972. 335 с.
- Пушкин А. С Евгений Онегин. М.: Айрис-пресс, 2005. 399 с.
- Тимофеев Л. И., Венгров М. П. Краткий словарь литературоведческих терминов. М.: Учпедгиз, 1963. 192 с.