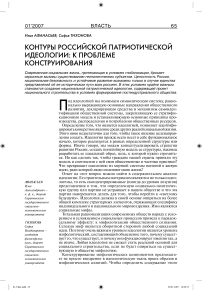Контуры российской патриотической идеологии: к проблеме конструирования
Автор: Афанасьев И., Тихонова С.
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Общество и глобализация
Статья в выпуске: 1, 2007 года.
Бесплатный доступ
Современная социальная жизнь, протекающая в условиях глобализации, бросает серьезные вызовы существованию геополитических субъектов. Целостность России, национальная безопасность и устойчивое развитие возможны только в случае единства представлений об ее историческом пути всех россиян. В этих условиях крайне важным становится создание национальной патриотической идеологии, содержащей проект национального строительства в условиях формирования постиндустриального общества.
Короткий адрес: https://sciup.org/170169103
IDR: 170169103
Текст научной статьи Контуры российской патриотической идеологии: к проблеме конструирования
Современная социальная жизнь, протекающая в условиях глобализации, бросает серьезные вызовы существованию геополитических субъектов. Целостность России, национальная безопасность и устойчивое развитие возможны только в случае единства представлений об ее историческом пути всех россиян. В этих условиях крайне важным становится создание национальной патриотической идеологии, содержащей проект национального строительства в условиях формирования постиндустриального общества.
АФАНАСЬЕВ Илья
Александрович – к. ф. н., доцент Саратовского государственного социальноэкономического университета
ТИХОНОВА Софья Владимировна – кандидат философских наук, доцент Саратовского государственного социальноэкономического университета
П од идеологией мы понимаем символическую систему, рационально выражающую основные направления общественного развития, декларирующую средства и механизмы самоидентификации общественной системы, закрепляющую ее стратификационную модель и устанавливающую основные принципы производства, распределения и потребления общественных ресурсов.
Определение того, что является идеологией, позволяет идентифицировать конкретное явление среди других реалий социальной жизни. Этого явно недостаточно для того, чтобы такое явление целенаправленно создать. Идеология прежде всего несет в себе функциональное начало, которое реализуется в рамках определенной структуры или формы. Иначе говоря, мы можем концептуализировать стратегии развития России, создать понятийную модель ее структуры, наконец разработать ее идеальный образ, цель, к которой нужно стремиться. Но как сделать так, чтобы граждане нашей страны приняли эту модель и соотносили с ней свои общественные и частные практики? Что превращает идеологию из мертвой системы понятий в живую идею, ради которой люди изменяют свою жизнь?
Ответ на этот вопрос можно найти в содержательном анализе идеологии. Ее строительным материалом являются не только идеологемы, то есть сконцентрированные (иногда до уровня лозунгов) представления о том, что определенную социально-политическую группу или партию не устраивает в нашем обществе и что эта партия намеревается делать для того, чтобы перейти к «светлому будущему». Идеология должна в своей основе опираться на более общий комплекс структурных элементов, отражающих специфику индивидуального и национального мировоззрения. Ими являются социальные мифы.
Тотальная рационализация современных обществ наряду с ускорением и усложнением социальных процессов привела к парадоксальному эффекту: к мифологизации общественного сознания. Сегодня миф является оборотной стороной любой социальной идеи. Поэтому очень важным уровнем идеологии является уровень мифологический, составляющий объяснение того, почему существует то, что существует, и почему оно функционирует именно так, а не иначе. Любая идеология не сможет стать реальной основой для социального строительства, если не будет опираться на существующую в обществе мифологию.
Конструирование мифологических компонентов предполагает не просто внедрение в идеологическую ткань ярких образов и мифологических аллюзий. Чтобы определить содержание этого уровня, нужно знать его истоки. Чтобы создать миф, надо знать, что такое миф. Чтобы создать популярный миф, нужно знать ожидания конкретной социальной группы и адекватно их оправдывать. Чтобы создать национальный миф, нужно знать национальную мифологию прошлого и настоящего.
Современная социальная мифология является крайне мало изученным объектом. Гуманитарные науки располагают обширными сведениями о том, какой была мифология в древних государствах (например, в Шумере, Греции, Риме и т. п.), как мифологические представления трансформировались в рамках различных религий. Известно, как отдельные мифы (например, миф о Золотом веке, Прогрессе, Равенстве) влияли на исторический процесс конкретных стран (Франция, Советский Союз), как использовались мифы при построении тоталитарных государств (нацизм). Хорошо изучены мифы массовой культуры, как национальные, так и универсальные, распространяющиеся по планете вместе с обществом потребления, рекламой, CocaCola и блокбастерами.
Однако сколько-нибудь систематизированной теории, объясняющей содержание и функции современной социальной мифологии с учетом всей сложности социальных структур, опирающихся на высокие технологии и их динамики в планетарном масштабе, ныне не существует. Социальная мифология сегодня – это экзотическая маргинальная территория оккультизма и киберпанка. Она не входит в мейнстрим гуманитарных наук, фактически к ней обращаются в случае провала рациональных проектов (дескать, во всем виноваты мифы и непостижимость человеческой природы).
Попытаемся определить сущность социальной мифологии. Мифология – форма общественного сознания, в основе которой лежит совокупность мифов, определяющих понимание окружающего мира и места человека в нем как социального существа. Мифы можно определить как повествования, объясняющие явления природы или человеческой реальности. Для социальной общности порожденные ею мифы имеют бесспорную ценность. Миф – это не история, которую рассказывают, это реальность, в которой живут. Особенность мифов заключается в том, что они содержат не только образ мира, но и образ действия, сплетающего жизнь человека, рода и жизнь космоса в одно неразделимое целое. А. В. Соколов определяет миф как воплощенный в слове мистический символ, синтез знания, веры и вымысла: миф связан с реальной действительностью и поэтому является источником знания; мистические качества мифа не удостоверяются здравым смыслом, поэтому он требует веры; мифу доверяют, потому что он обладает силой художественного вымысла.
Известный антрополог Э. Лич считал, что специфика мифа заключается не в том, что он является выдумкой, но в том, что он является божественной выдумкой для тех, кто верит, и волшебной сказкой для неве-рующих1. На этом основании исследователь политической мифологии К. Флад развивает эту мысль: миф есть рассказ, приобретший статус некоей священной правды внутри социальной группы (или нескольких групп); при этом он, вероятно, не имеет священного значения в глазах наблюдателя, который определяет его как миф2. Мифы являются важнейшей святыней племени, они наделяют смыслом все племенные обряды и институты, отнять у племени мифы значило бы отнять у него жизнь, лишить его способности удерживать свое существование. Кроме того, священные мифы в архаичных или традиционных культурах отражали и обосновывали множество разных форм отношений между социальными группами.
Вышесказанное актуально для прошлого. Очевидно, что процессы модернизации привели к десакрализации социальной жизни, а значит, статус мифов изменился. Отличия современного социального мифа от мифа сакрального заключаются в следующем. Во-первых, акци-дентальным характером его сакрального статуса (некоторые современные мифы могут приобретать статус священных в рамках конкретных социальных групп или институтов, однако это явление не является закономерным). Во-вторых, принципиально новыми технологиями мифотворчества, понимаемого как коммуникационный процесс, включающий создание, восприятие и повторение мифа. В условиях массовой коммуникации мифы отрываются от устной традиции и становятся медийными продуктами культурной индустрии, приготовленными по специальным рецептам. В-третьих, маргинальным статусом по сравнению с другими формами общественного сознания.
В противоположность мифологии архаических обществ современная социальная мифология представляет собой совокупность мифов и мифологем, не имеющую систематизированного характера. Точнее, более корректным представляется тезис о существовании разрозненных мифологий, мифов и мифологем, циркулирующих в коммуникативных потоках современного общества как в качестве элементов различных идеологий и мировоззрений, так и в качестве относительно самостоятельных явлений. Таким образом, некоторые из современных мифов являются отголоском синкретичной мифологии древности, некоторые – продуктом сознательного конструирования, мифотворчества.
Современные социальные мифы – это способы восприятия мира и суждения о нем. Они представляют собой повествования о настоящем, прошлом и прогнозируемом будущем. Их рассказчики стремятся сделать их доступными для аудитории и исполненными значения в ее глазах. Мифы рассказывают об истоках и основах общества, о подвигах героев, о возрождении и обновлении, а также несут в себе эсхатологические пророчества. Большинство мифов не имеет сакрального статуса, но тем не менее они обязательно должны быть приняты конкретной социальной группой в качестве истины и модели реальности.
Вернемся к проблемам формирования патриотической идеологии. Ее основой является героический мир Отечества, в котором отдать жизнь во имя счастья людей, чистых идеалов или отстаивания своей чести считается подвигом, воссоединяющим человека со своим родом и своей страной. Этот мир резко противопоставлен эгоистическому миру обывателей1.
Центр героической мифологии – архетип Родины-матери. Он воспроизводится в любом мифе и опирается на естественность чувства любви к месту, в котором человек родился. Но эта любовь не исчерпывается топографическими и пейзажными характеристиками. Тоскуя о Родине, любой человек тоскует не только о местах, но и о людях, эти места олицетворяющих. В первую очередь это славные предки – отцы, во вторую – значимые современники. Так формируется образ Отечества. Поэтому основным содержанием героической мифологии являются мифологемы героев, раскрывающиеся в мифах о конкретных персонажах.
Прежде чем перейти к содержанию героической мифологии, необходимо отметить принципиальную множественность типов ее героев, определяемую процессом социального развития. Мы уже отмечали включенность в современную мифологию различных исторических эпох, особенно ярко это проявляется в героической сфере.
Умирающиегерои.Историческипервый тип героя, героя мифологического. Это прежде всего борцы с силами хаоса. Они очищают землю от чудовищ, строят города и возглавляют многочисленные воинства народов. Для сознания древнего грека, римлянина, египтянина и т. п. герой мыслится как онтологическая скрепа, обеспечивающая связь между Небом богов и Землей людей. Важнейшим механизмом этой связи является мифологема смерти. Умирая, герой входит в сонм богов, обретая бессмертие и божественный статус, то есть становится «патроном» рода среди бессмертных. Героическая смерть всегда является смертью воина в бою и предполагает добровольный выбор. В частности, Ахиллес мог выбрать долгую бесславную жизнь возле домашнего очага либо раннюю смерть в бою, которая покроет его вечной славой. Он выбирает второе и погибает, сражаясь под стенами Трои, чем обеспечивает грекам обещанную богами победу. Правильная героическая смерть гарантировала «присоединение» славы индивида к магическому капиталу, фарну (В. Ю. Михайлин) рода или позднее племени, служившего залогом процветания, в данном случае всех данайцев. Бесславная, неправильная смерть аннулирует все прижизненные заслуги.
Живущие герои. Героизм здесь проявляется в последовательной и постоянной реализации некоего жизненного проекта, который служит примером для окружающих. Чаще всего это религиозные деятели, отшельники, аскеты. С появлением государства «божественные дела» становятся функцией правителя, на долю «маленького человека» остаются почитание царя, предков и заботы о себе. Ему нужны эталоны «обычной» жизни, выразителями которых становятся праведники, святые, подвижники. Истории живущих героев разворачиваются вокруг мифологемы Служения.
Жизненное пространство героя этого типа противостоит окружающему социальному пространству, «искривляет» и превращает его в центр, к которому стремятся единомышленники или сочувствующие. Почитатели героя и рождают легенду, зачастую на многие века переживающую своего прототипа. В ходе модернизации почитание святых уступает место культу великих людей. Пример – великие люди от Наполеона до Байрона и Вольтера, превратившиеся при жизни в полубогов, национальных оракулов или идеальных образцов для подражания. Вышеперечисленные персонажи могут правильно умирать, но главная их заслуга – в правильной жизни. Важно, что героями становятся реальные исторические личности.
Герои действующие. Ориентированы на решение определенной социально значимой задачи. В отличие от первых двух типов эти герои не собираются умирать ради достижения цели, хотя сознательно не исключают такой возможности и готовы к ней. Их подвиг заключается в реализации определенной социальной роли, крайне актуальной для общества – например, первооткрывателей, первопроходцев, естествоиспытателей. В героическую мифологическую систему включаются мифологемы Поиска, Открытия, Риска. Героями оказываются «обычные» летчики, химики, трактористы и т. д., выполнившие свою задачу наперекор обстоятельствам.
Героическая мифология включает в себя все эти типы. Поэтому она способна выполнить социализирующую функцию, поставляя материал для идентичностей. Благодаря героям человек получает не только эталон Жзни и Смерти, но и образцы социальных ролей.
Крах советской героической мифологии, несмотря на ее типологическое многообразие, на наш взгляд, был вызван постановкой героизации на поток. Конвейер памятников, сюжетов и имен привел к тому, что они стали неразличимы. У героев Великой Отечественной войны не оказа- лось достойных преемников. В ситуации холодной войны как плохого мира им неоткуда взяться. Действующие герои уничтожили сами себя в борьбе за привилегии и окончательно растворились на фоне мексиканских Марианн и героев дня. Тезис М. МакЛюэна о том, что в информационном обществе каждый будет иметь право на пять минут славы, обернулся уверенностью обывателя в том, что время героев прошло. «У нас» их просто не бывает. В такой ситуации российская героическая мифология может и не возникнуть.
Попробуем ответить на вопрос о том, как обстоят дела с героями и патриотическом воспитании в целом в современной России. Существует государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001–2005 гг.» с суммарной стоимостью в 178 млн. руб. Данных о ее результатах нами не обнаружено. Принята аналогичная программа на 2006–2010 гг. с объемом финансирования около 500 млн. руб.
Несмотря на это, интерес к проблематике героев Отечества остается невысоким. Мы попытались выяснить частоту запросов на героико-патриотическую тему в российской части сети Интернет. По статистике постоянно обращаются к этому информационному ресурсу около 15% жителей России, однако данная аудитория является наиболее образованной и активной частью нашего общества и ее предпочтения показательны с точки зрения содержания общественного сознания.
По данным проекта RUметрика , к общественнополитической тематике проявляют интерес около 4% пользователей Сетью. На запрос «Герои России» информационнопоисковая система Яндекс выдала ссылки на 1500 сайтов. Обычная тематика большинства из них новостная, очень большое количество выданных материалов посвящено обсуждению льгот Героев России (перечень, порядок реализации). Поиски информации, посвященной самим людям – Героям России, описанию их подвигов, биографиям практически ни к чему не привели. В настоящее время в рунете нами найден только один ресурс («Современная Россия» , который располагает обширной базой данных, содержащей сведения о выдающихся россиянах, однако эта информация предлагается за отдельную плату.
Страна фактически не знает своих реальных героев, чего не скажешь о звездах шоу-бизнеса1. У россиян нет интереса к своим соотечественникам, которые бескорыстно и преданно служат своей стране. В новостных лентах очень редки сообщения о космонавтах, полярниках, путешественниках, первооткрывателях, ученых, спасателях. А сообщения о современных героях русской армии хотя и часты, но дискретны, поэтому быстро забываются. Мало кто, например, помнит о подвиге псковских десантников (запросов за месяц – 16, включая наш). Недавнее сообщение о том, что данный сюжет взял в разработку Первый канал, внушает некоторые надежды.
Современная массовая культура порождает образы героев в огромном количестве: «ментов», сотрудников ФСБ и других спецслужб, солдат и офицеров. Таким путем можно попытаться создать привлекательный имидж отдельных структур, но только при условии, что его контраст с повседневным опытом взаимодействия граждан с ними не будет слишком разительным. Герои нашего экрана не связаны с реальными людьми и подчиняются общим законам масскульта.
Средства массовой коммуникации, несмотря на свой апломб четвертой власти, вносят крайне скромный вклад в дело патриотического воспитания. Доля массмедийных продуктов, рассказывающих о подвигах реальных героев, ничтожна мала на фоне сюжетов о детоубийцах, заключенных, «оборотнях» в погонах и криминалитете. И дело вовсе не в низменных вкусах публики. Иначе колоссальный успех фильма «9 рота» был бы невозможен.
Стране необходимы мифы о людях нашего мира, совершающих свои подвиги здесь и сейчас, рядом с нами, на соседней улице, в соседнем городе. Россияне имеют право быть историческим свидетелями героизма своих сограждан, а значит, и причислять себя к нашей эпохе, чувствовать себя ее сотворцами.
Все это, по-нашему, свидетельствует о необходимости системной политики в указаннойобласти.Стихийноемифотвор-чество существует всегда. Невнимание государства к общественному сознанию приводит к тому, что создавшийся вакуум быстро заполняется. Относительно новые мифологемы (Поиск, Открытие) замещаются мифологемами массовой культуры, воспроизводимые в современных обществах в избытке. Последние эксплуатируют тему социального взлета (мифы о Золушке, звездные мифы шоу-бизнеса), гарантирующего не только безбедное потребление экстра-класса, но и славу.
Особо дело обстоит с мифологемой Смерти. Человек может не узнать вкус богатства, счастья, любви, но смерть для него неизбежна. Искусство личного умирания в контексте истории ХХ века уступило место ремеслу умерщевления целых популяций в их нечеловеческой неразличимости. Обыватель представляет собственную смерть как нечто, что должно пройти незамеченным социумом. Но свою смерть можно предать забвению лишь до того момента, когда спокойное течение жизни будет прервано той или иной пограничной ситуацией – болезнью, смертью любимых. И тут человек ясно ощущает ее тайну. В смерти и переживании «смертности» есть нечто такое, что не только отражает жизнь, но и дополняет ее. Ее неизбежность приносит чувство основательности и стабильности, неизвестное по обыденной жизни, где все преходяще и неустойчиво.
Смерть идентифицирует, выделяет из толпы, выдавливает из шершавой коры коммунальных сущностей нечто индивидуальное, особенное, «свое». Только на пороге Вечности можно сказать «Я», а не «Мы», понять, что такое «Я», почувствовать все величие своей противопоставленности миру. В этот момент востре-буется мифологема правильной смерти, которая эксплуатируется не только эзотерическими культами и сектами, но, что крайне важно для современного состояния общественной безопасности, терроризмом.
В основе притягательности терроризма лежит именно мифологема героической смерти. С одной стороны – смерть на сегодня является единственным неоспоримо подлинным событием в жизни каждого индивида, до сих пор реально принадлежит ему самому. С другой стороны – современные общества предполагают существование целой индустрии смерти, включающей больницы как место умира- ния, инстанции, удостоверяющие смерть и практики распоряжения мертвым телом. В обществе существует сценарий нормальной смерти и умирания, который будет реализован большинством. Он дополнен вариантами ее предотвращения (биомедицинские технологии) или управления ею (проблемы эвтаназии), представляющие собой блага, распределяемые в обществе.
Внезапная смерть индивидов нарушает правила устоявшегося обмена социальной системы и приводит к разладу механизмов, настроенных на непрерывное функционирование. Кроме того, такая непредсказуемая смерть есть безусловное освобождение человека от диктата системы, безусловное возвращение ее даров в виде постоянно отсрочиваемой смерти. В этом и кроются смысл и суть терроризма. «Настоящий террорист даже суд над собой превращает в суд над Системой»1.
Именно террористы превратились в современных умирающих «героев». Их псевдоправильная добровольная смерть призвана изменить социальный порядок, однако нарушает процессы символического обмена: она обменивается не на магический капитал, а на символику неопределенности и страха. Внезапность и деструктивность происходящего события каждый раз ставят вопрос об устойчивости социальной системы и ее жизнеспособности, создают миф терроризма.
На наш взгляд, действия государственных структур, развенчивающих этот миф через создание негативного имиджа террористов (репортажи, документальные фильмы, новостные сводки о наемническом характере их деятельности, о принуждении вдов боевиков к роли шахидок и т. п.), важны, но недостаточны. В очень редком случае притягательность мифа можно уничтожить через артикуляцию и рационализацию. Ему нужно противопоставить другой, более мощный миф. И таким должен быть миф о настоящем, подлинном живущем и действующем герое, который послужит примером для ныне живущих и будущих поколений.
Возрождение героической мифологии представляется возможным при условии системного решения следующих первоочередных задач:
-
1. Создание официального сайта, посвященного Героям России. Этот сайт должен содержать не только биографии героев, сведения о совершенных ими подвигах и о присвоении звании Героя, но и публицистический и художественный архив (или хотя бы ссылки на соответствующие произведения). Доступ к сайту должен быть свободным (бесплатным).
-
2. Возрождение такой формы социальной памяти, как увековечение: мемориальные доски, присвоение имени Героя различным объектам (улицам, паркам, школам), создание памятников и мемориальных групп, учреждение именных стипендий и премий.
-
3. Создание событий. Предполагает организацию событий, связанных с почитанием героев. В частности, присвоение звания Героя России должно быть событием национального масштаба, адекватно отраженного в СМИ не только в качестве новости, но и сюжета для статей, очерков, ток-шоу и т. п.
-
4. Конструирование героических мифов на уровне массовой культуры. Должен существовать четкий социальный заказ со стороны государства на экранизацию героических биографий и эпических сюжетов, а также на их отражение в художественной литературе. Социальная значимость такого направления в искусстве вовсе не предполагает его малую экономическую эффективность (пример – кассовые сборы американской ленты «К-19»). Государственная поддержка не обязательно должна выражаться в прямом финансировании, более эффективным было бы учреждение номинаций в престижных литературных и кинопремиях. Данное направление продуктивно при талантливом исполнении, уникальном характере и обращении к разнообразным жанрам (показательно снижение популярности и качества сериала «Улицы разбитых фонарей» по мере его продолжения).
-
5. Применение комплексных PR-мер для формирования известности конкретных героев.
Современная Россия не знает своих героев. Народ, не имеющий лица, легко превращается в безликую толпу, которой правят инстинкты, а не идеи.
Работа выполнена при поддержке гранта президента РФ МК-1083.2005.06