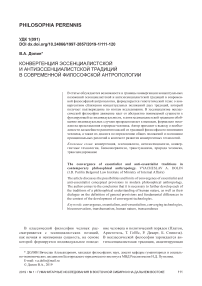Конвергенция эссенциалистской и антиэссенциалистской традиций в современной философской антропологии
Автор: Долин Вячеслав Александрович
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Philosophia perennis
Статья в выпуске: 1 (47), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье обсуждаются возможности и границы конвергенции концептуальных положений эссенциалистской и антиэссенциалистской традиций в современной философской антропологии, формулируется гипотетический тезис о конвергентном сближении концептуальных положений двух традиций, который получает подтверждение по итогам исследования. В эссенциализме неклассической философии движение идет от абстрактно понимаемой сущности к фундирующей ее индивидуальности, в антиэссенциалистской традиции обобщение индивидуальных случаев предрасполагает к выводам, формально похожим на представления о природе человека. Автор приходит к выводу о необходимости дальнейшего развития каждой из традиций философского понимания человека, а также их диалога по определению общих положений и осознанию принципиальных различий в контексте развития конвергентных технологий.
Конвергенция, эссенциализм, антиэссенциализм, конвергентные технологии, биоконсерватизм, трансгуманизм, природа человека, трансцендирование
Короткий адрес: https://sciup.org/170175881
IDR: 170175881 | УДК: 1(091) | DOI: 10.24866/1997-2857/2019-1/111-120
Текст научной статьи Конвергенция эссенциалистской и антиэссенциалистской традиций в современной философской антропологии
В классической философии человек рассматривается с эссенциалистских позиций, как вечная и неизменная сущность, на основе которой формируется индивидуальное поведе- ние человека и политический порядок (Платон, Аристотель, Т. Гоббс, Р. Декарт, Б. Спиноза). В неклассической философии зарождается ан-тиэссенциалистская традиция, акцентирующая внимание на становлении и историчности человека (С. Кьеркегор, Ф. Ницше, марксизм, философская антропология, Э. Гуссерль, экзистенциализм, постмодернизм). С возникновением антиэссенциализма начинается полемика двух традиций, в результате которой эссенциалист-ские представления утрачивают монопольное положение в философской антропологии.
Со второй половины ХХ в. для понимания человека характерно доминирование антиэс-сенциалистской традиции (подробнее cм.: [5]). Однако прогрессивное развитие нано-, био-, инфо – и когнитивных технологий и осознание в начале XXI в. возможности их конвергенции (см., напр.: [22]) формирует закономерный интерес к проблеме природы человека (Ф. Фукуяма, Ю. Хабермас). «Эссенциалистский поворот» начала XXI в. в контексте доминирования антиэссенциалистской традиции требует возвращения к исследованию проблемы соотношения эссенциализма и антиэссенциализма в философском постижении человека. Будет логичным утверждать, что традиционное понимание соотношения двух традиций как противоречащих друг другу, согласно формуле закона исключенного третьего («либо эссенциализм, либо антиэссенциализм, и третьего не дано»), с начала XXI в. теряет концептуальное и праксео-логическое значение. Возникает необходимость поиска нового решения вышеназванной проблемы, поскольку без него невозможно сформировать понимание человека в контексте развития конвергентных технологий.
В XXI в. предложено два новых варианта решения проблемы. С одной стороны, натуралистически фундированный биоконсерватизм, обеспокоенный возможным биотехнологическим изменением человека (Ф. Фукуяма, Ю. Хабермас, В.Ф. Чешко), обращается к концепту «природа человека». С другой стороны, исходящий из положений антиэссенциалист-ской антропологии трансгуманизм обосновывает возможность радикальной трансформации человеческой природы (см., напр.: [6, с. 201; 20, с. 93]). Формально ситуация в современной философской антропологии подтверждает традиционный тезис о противоречии двух традиций по формуле закона исключенного третьего.
Вместе с тем, подобный вывод не учитывает контекст, связанный с развитием традиций в концептуальном поле неклассической философии. В ее рамках не только формируется антиэссен-циалистская традиция философской антропологии, но и сам эссенциализм трансформируется в неклассическую форму (Л.А. Фейербах, марксизм, Э. Гуссерль, философская антропология). В частности, неклассический эссенциализм использует концепт классической традиции «природа человека» для описания человека как самостоятельной онтологической реальности, но с учетом методологической установки неклассической философии о развитии субстанции.
Поскольку современные варианты эссенциализма и антиэссенциализма развиваются в рамках неклассической философии, будет логичным предположить, что в антропологическом дискурсе современности противоречие двух традиций отсутствует, а биоконсерватизм и трансгуманизм есть крайние точки широкого континуума представлений о человеке. Данное предположение возможно сформулировать как гипотетический тезис о конвергентном сближении концептуальных положений эссенциализма и антиэссенциализма в современной философской антропологии. Онтологической основой данного предположения выступает человек, который концептуально отображается в обеих традициях. Во избежание двусмысленности понимания тезиса следует учитывать различное содержание понятия «конвергенция» в биологии и в философии науки и техники (см. также: [7]). В биологии конвергенция понимается как схождение отдельных признаков неродственных систематических групп в результате развития в схожей экологической среде. В контексте философии науки и техники постулируется не только взаимодействие, но и взаимопроникновение систем, стирающее границы между ними (М. Роко и В. Бейнбридж, Д.А. Медведев, Д.И. Дубровский). Конвергенция в данной статье понимается в биологическом значении. Хотя следует осознавать, что, в отличие от биологической конвергенции, в статье предполагается рассмотреть формально неродственные теоретические системы, развивающиеся в едином концептуальном поле.
Объект рассмотрения в данной статье – соотношение эссенциалистской и антиэссенци-алистской традиций в современной философской антропологии, предмет – возможности и границы конвергенции концептуальных положений эссенциалистской и антиэссенциалист-ской традиций в современной философской антропологии.
Для исследования предмета статьи необходимо решить три исследовательские задачи:
-
• систематизация концептуальных представлений о человеческой природе в
эссенциализме неклассической философии;
-
• систематизация концептуальных представлений о человеке в антиэссенциа-листской традиции понимания человека;
-
• сравнительный анализ двух вариантов концептуальных представлений в современной философской антропологии.
Методологическую основу статьи образуют триада «структура – функционирование – развитие» эволюционно-системного подхода, дополненная признанием факта наличия собственного бытия человека, сравнительный и дедуктивный методы, метод аналогии, а также концептуальное положение о разделении истории философии на классический и неклассический периоды.
Перейдем к систематизации концептуальных представлений о человеческой природе в эссенциализме неклассической философии. По причине ограниченного объема статьи систематизация будет осуществлена в форме тезисов.
Первый тезис, раскрывающий структуру природы человека, выделяет онтологические сферы («миры»), к которым принадлежит человек. В трехмерной конституции человека Г.Э. Хенгстенберга «…дух, область витального и личностное начало представлены друг другу и “стоят вместе”» [18, с. 244]. Динамически обретаемая структура личности есть триединство духа как выражающего себя начала, области витального как средства выражения и личностного начала как инстанции для определения индивидуально-неповторимого баланса духа и области витального [18, с. 244]. Трехмерная модель человека В. Франкла включает в себя телесное, психодинамическое и духовное измерения. Первые два находятся в горизонтальной плоскости, а духовное – в вертикальной и описываются, соответственно, как «психофизический организм» и «духовная личность» [14, с. 291]. Однако для В. Франкла человек существует как целостная личность. «…Личность неделима … потому что представляет собой единство» [14, с. 290], «единство вопреки многообразию» [15, с. 48]. Для К. Вальверде «человек есть целостность и в то же время … и душа, и тело» [2, с. 301]. В свою очередь человеческая душа понимается «…как дух, внутренне независимый от материи и обладающий самосознанием» [2, с. 300].
Таким образом, в отличие от элементно-субстанционального, аналитического понимания человеческой природы классической филосо- фии, в котором основной акцент делается на выделении структурных элементов, а рассмотрение завершается простой констатацией целостности человека, в эссенциализме неклассического периода преобладает стремление понимать природу человека как обретаемое единство слагающих ее измерений (динамический холизм).
Второй тезис характеризует функционирование природы человека. Если в классической философии – в соответствии с аристотелистским квалитативизмом – сущность однозначно предопределяет функционирование, то в эссенциализме неклассической философии, соответственно установкам платонизма, функционирование природы человека первично относительно слагающих ее элементов. По мнению Ж.-М. Шеффера, «…сущностное свойство Человека таково, чтобы эта сущность в нем всегда, по самой сущности , отставала от существования, так что последнее определяется своей способностью отрываться от сущности, понимаемой как кристаллизация прежнего существования» [19, с. 166]. Выражая мысль Ж.-М. Шеффера кратко, приходим к формулировке «существование человека предшествует его сущности». В результате подобного понимания спектр вариантов функционирования природы человека расширяется: монистическая трансценденция классической философии сменяется плюралистической формой в неклассическом стиле философствования.
Однако для формулировки второго тезиса проблематично ограничиться суждением «существование предшествует сущности». Его следует дополнить еще двумя утверждениями. Во-первых, в неклассическом эссенциализме существование человека носит не только родовой, но и индивидуальный характер. Выделенная С. Кьеркегором индивидуально-личностная форма существования как приоритетный объект анализа становится важнейшей особенностью неклассического дискурса о человеке. Позднее идея соединения индивидуального и родового измерения человека становится доминирующей в научной психологии (З. Фрейд, Э. Фромм, В. Франкл). Отдельный человек «… одновременно “он” и “все”, он индивид со своими особенностями и в этом смысле он уникален; в то же время он обладает всеми характеристиками, присущими человеческому роду» [16, с. 58–59]. В динамическом аспекте для него характерно сосуществование «…еди-ного человеческого способа бытия и различных форм бытия, в которых он проявляется» [15, с.
-
48]. Хотя в контексте исторического развития неклассического эссенциализма корректнее вести речь об индивидуальных формах родового существования, реализуемых конкретными личностями (М. Шелер, А. Гелен). Во-вторых, неклассическая философия отказывается от атомарно-изолированного понимания человека в классической философии и рассматривает человека интерсубъективно, т. е. в контексте взаимодействия с природой, обществом и культурой (Э. Гуссерль, М. Бубер). Обобщая, правомерно предложить следующую формулировку второго тезиса: индивидуально-личностное существование человека, реализующееся в различных природных, социальных и культурных контекстах, предшествует его родовой сущности.
Третий тезис отражает историческое развитие природы человека и логически вытекает из второго, ведь развитие с необходимостью реализуется в пространственно-временных рамках существования. Идея развития человеческой природы (марксизм, Э. Гуссерль, философская антропология) является новой относительно постулата классической философии о ее «вечности и неизменности». К примеру, для марксиста В.В. Орлова человек как особая форма материи обладает «…бесконечной способностью к развитию, сохраняя свою основную природу» [10, с. 13]. Ему вторит и религиозный философ Г.Э. Хенгстенберг, определяя природу человека как «постоянство-в-изменении» [18, с. 213]. Концептуально возможность исторического развития человеческой природы объясняется тем, что в основе человеческой истории и биографии отдельной личности лежит динамика одного объекта [2, с. 11; 18, с. 211–212]. Иначе говоря, каждая историческая эпоха раскрывает новые грани природы человека, не отменяя ее наличия.
Понятие «постоянство-в-изменении» не только усложняет понимание природы человека («единая человеческая природа во множественности ее конкретно-исторических форм»), но и вносит новый аспект в понимание критической функции философии. Отныне философия обязана корректировать понимание природы человека в начале каждого нового этапа истории человечества, поскольку «всякое учение о человеке необходимо соотносить с исторической эпохой» [3, с. 38].
Перейдем к систематизации концептуальных представлений о человеке в антиэссенциалист-ской традиции понимания человека. Необходимость подобной формулировки задачи обу- словлена отрицанием существования природы человека в данной традиции.
Структура человека в антиэссенциалист-ской традиции формально отсутствует. Согласно Ж.-П. Сартру, человек как «бытие-для-себя» есть ничто, не принадлежащее бытию объективных вещей и процессов, или «бытию-в-себе». Сартровское отождествление человека с «…ды-рой бытия внутри Бытия» [11, с. 617], признание радикального отличия человека от «бытия-в-се-бе» как внешне-предметного, констатация его инаковости миру доминируют в современной философской антропологии. Человек понимается, например, как «троякое размыкание», «ансамбль стратегий границы» (С.С. Хоружий), «пустое желание стать полным» (Ф.И. Гиренок), «бытие в переходе» (С.А. Смирнов), «несамотождествен-ная идентичность» (С.С. Аванесов), «проектирование собственного бытия» (Ю.М. Резник). В результате человек рассматривается в «…модусе ускользающего что …» [4, с. 426].
Не отвергая традиционную интерпретацию позиции Ж.-П. Сартра, следует обратить внимание на три упрощения его взглядов относительно общих закономерностей существования человека. Последние правомерно рассматривать как аналог представлений о природе человека в эссенциализме неклассической философии. Во-первых, при радикальном противопоставлении «внешнего», объектного, и «внутреннего», собственного человеческого, бытия упускается факт признания философом наличия бытия-в-се-бе в самом человеке (тело, эго, аффекты, привычки и т. п.). Подобное разграничение правомерно рассматривать как движение в сторону признания наличия естественного, «природного» измерения человека. Во-вторых, Ж.-П. Сартр отрицает понимание природы человека лишь в духе классической философии: «…Если невозможно найти универсальную сущность, которая была бы человеческой природой, то все же существует некая общность условий человеческого существования» (курсив мой. – прим. авт.) [11, с. 321]. Данная общность означает, что для человека «не изменяется лишь необходимость … быть в мире, быть в нем за работой, быть в нем среди других и быть в нем смертным» [11, с. 336]. Также для раскрытия общего в человеке философ использует представление о человеческой реальности. Последняя «…по-является для нас как всегда только обнаруживаемая через такого-то человека, через отдельную личность» [11, с. 569]. В динамическом аспекте человеческая реальность отождествля- ется с желанием, структура которого раскрывается следующей последовательностью: эмпирическое желание – фундаментальное желание как способ выбора личностью собственного бытия – желание вообще. «…Последнее же должно быть рассматриваемо как человеческая реальность в личности, что составляет ее общность с другими, позволяет утверждать наличие истины о человеке, а не только о несравнимых индивидуальностях» [11, с. 570–571].
Иначе говоря, «истины о человеке» в родовом аспекте возможны и в радикальном антиэссенциализме. Данный постулат есть шаг в сторону представлений о природе человека, но не в духе метафизики классической философии, которая подменяет отдельного человека его онтологической сущностью, а в неклассическом понимании, нацеленном на исследование сущностных основ существования и историчности человека.
Наконец, в-третьих, приходя к выводу «…о конститутивном принципе внешних отношений , какими они могут обнаруживаться в человеческой реальности, представленной в бытии-в-се-бе и включенной в мир…» [11, с. 110], Ж.-П. Сартр – подобно феноменологии Э. Гуссерля – де-факто исходит из тезиса о существовании мира. Признание Ж.-П. Сартром наличия мира и человеческой реальности дает основание сделать вывод и о существовании разнообразных связей в системе «человек – мир» (второй шаг в сторону признания наличия природы человека). Однако осознание названных связей как неважных, методологическое «вынесение за скобки» – верный ход мысли для философского осмысления имманентного миру индивидуального сознания, которой является феноменологическая онтология Ж.-П. Сартра.
В контексте исследования предмета статьи очевиден парадоксальный вывод: один из самых непримиримых противников эссенциалистской традиции в философской антропологии высказывает положения, де-факто совместимые с признанием наличия определенной онтологической структуры человека и, как следствие, системы связей с миром. Недостаточное внимание к вопросу о структуре человека объясняется стремлением подчеркнуть онтологическую уникальность человека и радикальным образом отмежеваться от положений классического эссенциализма, который онтологически «встраивает» и аксиологически подчиняет человека определенному объективному порядку. Понимание онтологической структуры в эссенци- ализме неклассической философии следует охарактеризовать как недифференцированный, «бесструктурный» холизм. Радикальный сдвиг исследовательского интереса в сторону функционирования и развития человека в данном контексте выглядит закономерным.
Для раскрытия функционирования человека в антиэссенциалистской традиции используется понятие «условия человеческого существования». Также названная традиция опирается на сартровский тезис «существование предшествует сущности» [12, с. 321], т. е. использует понятие классической философии «существование». Хотя Г. Марсель и М. Хайдеггер не соглашаются с подобным пониманием соотношения сущности и существования. Например, Г. Марсель предлагает методологически более выдержанную формулировку: «…У человека его сущность понимается лишь через его существование и посредством его…» [8, с. 33].
Функционирование человека в антиэссенци-алистской традиции характеризуется, как минимум, тремя особенностями. Первую из них возможно охарактеризовать как крайний номинализм: рассматривается лишь существование отдельного человека и отвергаются его родовые формы (С. Кьеркегор, экзистенциализм). Так, для Ж.-П. Сартра «…бытие – это индивидуальное приключение» [11, с. 619], которое «…в сущности есть постоянный проект обосновывать себя в качестве бытия и постоянное поражение этого проекта» [11, с. 620]. М. Хайдеггер как теоретик индивидуально-неповторимого бытия человека рассматривает последнее как «сущее, существующее способом экзистенции…» [17, с. 32] и подчеркивает: «только человек экзистирует» [17, с. 32]. К. Ясперс дополняет крайний номинализм рассмотрением человеческой истории: «Жить в сфере исторических возможностей, видеть открытый мир – пребывать в нем, а не над ним» [21, с. 199].
Вторая особенность связана с раскрытием сущностных аспектов существования человека как процесса в понятии «трансцендирование» («трансценденция») (Н.А. Бердяев, М. Бубер, М. Шелер, Э. Кассирер, С.Л. Франк, М. Хайдеггер, К. Ясперс). Трансцендирование (тран-сценденция) подразумевает имманентный процесс, сутью которого является «…выхождение за пределы самого себя, переход через границы своей собственной области бытия» [13, с. 343]. С.Л. Франк выделяет два направления транс-цендирования: «во-вне» (в отношение «я-ты») и «вовнутрь» (в реальность собственного духа)
[13, с. 346]. Для М. Бубера существует три «экстравертных» измерения трансцендирования: в мир природы, в мир людей (основной путь) и в мир духовного абсолюта [1, с. 16–17].
Третья особенность понимания функционирования человека в антиэссенциалистской традиции связана с возможностью достижения самотождественности как внутренней целостности и динамического единства. Она предполагает «…согласие человека с самим собой, гармонию его желаний, духовных устремлений, ценностей и поступков, единство самооценки и самоактуализации» [9, с. 94]. Данную особенность правомерно охарактеризовать понятием «идентичность».
Л.Е. Моторина рассматривает самотожде-ственность и самотрансцендирование как две важнейшие антропологические константы, выступающие в качестве методологических оснований изучения внешнего и внутреннего мира индивидуального человека соответственно [9, с. 93]. В контексте данной статьи корректнее вести речь о внешне-предметном и внутренне-психологическом аспектах существования индивидуального человека. Синтезируя три рассмотренные особенности, получаем следующее утверждение: существование индивидуального человека как двуединства внешне-предметного и внутренне-психологического аспектов предшествует существованию родового человека.
Методологический тезис «развитие с необходимостью связано с функционированием», т. е. развитие человека реализуется в существовании и через него, актуален и для антиэссен-циалистской традиции понимания человека. В ней парадоксальным образом соединяются представления об индивидуальном существовании и развитии человека в его родовом понимании. Для отображения данного соединения существует две исследовательские стратегии.
Первая из них акцентирует внимание на универсальном, общечеловеческом измерении индивидуального существования (Г. Марсель, Ж.-П. Сартр). К примеру, Ж.-П. Сартр, используя понятие «проект» для описания развития индивидуального человека, заключает: «… Всякий проект, каким бы индивидуальным он ни был, обладает универсальной значимостью» [12, с. 337]. «Местом встречи» индивидуального и родового развития человека выступает индивидуальный выбор. «Выбирая себя, я созидаю всеобщее. Я созидаю его, понимая проект любого другого человека, к какой бы эпохе он ни принадлежал. Эта абсолютность выбора не ликвидирует относительности каждой отдельной эпохи» (курсив мой. – прим. авт.) [12, с. 337].
Вторая стратегия рассматривает индивидуального человека в истории (К. Ясперс, М. Хайдеггер). Принципиален тот факт, что обращение к истории как предмету исследования не изменяет установок экзистенциального стиля философствования. Первореальностью остается отдельный человек, который – по крайней мере, с методологических позиций – не поглощается историей. Для М. Хайдеггера бытийное мышление, носящее в его системе индивидуально-личностный характер, «…помогает бытию истины найти свое место в историческом человечестве» [17, с. 40]. По словам К. Ясперса, «…мы живем не только в ситуации человеческого бытия вообще, но познаем ее каждый раз лишь в исторически определенной ситуации…» [21, с. 289], неотделимой от индивидуального человеческого существования. Наиболее продуктивной стратегией взаимодействия индивидуального человека и истории является «… отношение к бытию как к ориентирующемуся самобытию ; целью уяснения ситуации является возможность сознательно с наибольшей решимостью постигнуть собственное становление в особой ситуации» [12, с. 304].
Обобщая, развитие человека в антиэссенци-алистской традиции возможно выразить формулой: «родовой человек (вос)создается через индивидуальное бытие в конкретной ситуации».
Следует констатировать, что даже при поверхностном, несистематическом сопоставлении двух традиций понимания человека очевидно наличие общих черт. Полученный вывод не соответствует общепризнанному постулату о непреодолимости границы двух вариантов дис-курсивности. Но поскольку антропологические константы в антиэссенциалистской традиции понимания человека, даже будучи регулятивными идеями, все же соотносятся с объективной реальностью, то – в духе гипотетического тезиса статьи – правомерно предположить, что эссенциализм и антиэссенциализм действительно представляют собой два полюса принципиально единого континуума современных представлений о человеке.
Для завершения проверки данного предположения следует перейти к сравнительному анализу двух вариантов концептуальных представлений в современной философской антропологии. Предварительно следует систематизировать полученные выводы по схеме «эс- сенциализм неклассической философии – анти-эссенциалистская традиция»:
-
• структура: динамический холизм как обретаемое единство слагающих ее измерений – недифференцированный, «бесструктурный» холизм;
-
• функционирование: индивидуально-личностное существование человека, реализующееся в различных природных, социальных и культурных контекстах, предшествует его родовой сущности – существование индивидуального человека как двуединства внешне-предметного и внутренне-психологического аспектов предшествует существованию родового человека;
-
• развитие: «постоянство-в-изменении», т. е. историческое развитие природы человека – родовой человек (вос)создается через индивидуальное бытие в конкретной ситуации.
Начнем со структуры человека. Человек есть структурированная целостность с четким выделением элементов в неклассическом эссенциализме и недифференцированная целостность в антиэссенциалистской традиции. Вопреки стремлению к целостному пониманию, дистанция двух традиций в данном аспекте максимальна и соответствует традиционным представлениям об их различии. И хотя выделенное при анализе антиэссенциалистской традиции неявное признание наличия у человека определенной онтологической структуры есть шаг в сторону неклассического эссенциализма, он не способен сократить дистанцию между двумя подходами. И действительно, признание антиэссенциалистской традицией эссенциа-листского тезиса о «встроенности» отдельного человека в объективные порядки бытия противоречит программному положению антиэссенциализма о максимизации свободы индивидуального выбора.
Применительно к аспекту функционирования человека для обоих подходов характерны два утверждения: во-первых, существование предшествует сущности, и, во-вторых, существование как процесс относится к индивидуальному человеку. Проанализируем данные тезисы.
Относительно утверждения «существование предшествует сущности» возможно предложить и более сильный вариант формулировки: поскольку в обеих традициях данный тезис признается как истинный, то представления о функционировании человека в эссенциализме неклассической философии и в антиэссенци-алистской традиции возможно отождествить. Однако при более внимательном рассмотрении становится очевидным, что утверждение «существование предшествует сущности» не отменяет принципиально различное фундирование формально тождественных посылок. Если в неклассическом эссенциализме данное утверждение смягчает констатацию наличия эволюционирующей во времени родовой сущности человека, то в антиэссенциалистской традиции оно акцентирует внимание на понимаемом в духе крайнего номинализма индивидуальном существовании, за которым нет родовой сущности.
В контексте исследования предмета статьи становится очевидным встречное движение традиций: неклассический эссенциализм дополняется учетом индивидуального существования и исторического развития человеческой природы, а антиэссенциалистская традиция признает наличие общего у неповторимых индивидуальностей.
Перейдем ко второму утверждению, объединяющему неклассический эссенциализм и антиэссенциалистскую традицию: существование как процесс относится к индивидуальному человеку. Действительно, объединение внешне-предметного и внутренне-психологического аспектов существования индивидуального человека в неклассической традиции понимания человека формально совместимо с неклассическим эссенциализмом. Однако отождествить представления двух подходов проблематично, поскольку эссенциализм неклассической философии традиционно рассматривает еще и существование родового человека.
Таким образом, в аспекте функционирования человека очевидно встречное движение неклассического эссенциализма и антиэссен-циалистской традиции, но с сохранением своеобразия каждого из направлений. Обе традиции фундированы разными концептуальными представлениями. Однако общность исходного тезиса – даже при различии его интерпретации в каждой из традиций философской антропологии – позволяет сделать вывод о максимальном сближении двух традиций понимания человека.
По аспекту развития человека также очевидно сближение двух традиций, поскольку в неклассическом эссенциализме – в отличие от классического – появляется постулат об историческом развитии природы человека. Однако общий тезис – пусть и по-разному интерпретируемый в каждой традиции – отсутствует. Поэтому будет обоснованным утверждать, что данное сближение не настолько выраженное, как применительно к аспекту функционирования человека.
Подобно аспекту функционирования человека, признание сближения двух традиций не отменяет различия между «постоянством-в-из-менении» как историческим развитием природы человека (эссенциализм неклассической философии) и (вос)созданием родового человека через индивидуальное бытие в конкретной ситуации (антиэссенциалистская традиция). Различие двух традиций по рассматриваемому аспекту занимает промежуточное положение между аспектом структуры человека и аспектом функционирования человека.
По результатам проведенного анализа возможно выстроить следующий ряд по возрастанию степени сближения аспектов двух традиций: структура человека – развитие человека – функционирование человека. Данная последовательность является закономерным следствием сдвига исследовательского интереса от сущности к существованию, характерному для понимания человека в неклассической философии в целом.
На основе объединения промежуточных выводов правомерен следующий итоговый вывод: для неклассического эссенциализма человек есть динамическая константа, а для антиэссен-циалистской традиции человек – это материал, приспосабливающийся к изменениям социально-культурного окружения.
Подведем итоги. В результате исследования предмета статьи выявлено конвергентное сближение концептуальных положений двух традиций в понимании человека: они обосновывают схожие концептуальные положения, но не по причине общности фундирования, а вследствие развития в рамках неклассической философии. В эссенциализме неклассической философии движение идет от абстрактно понимаемой сущности к фундирующей ее индивидуальности, а в антиэссенциалистской традиции обобщение индивидуальных случаев предрасполагает к выводам, внешне похожим на представления о природе и (или) сущности человека.
На основании аналогии с биологической конвергенцией правомерно утверждать, что конвергенция концептуальных положений двух традиций носит «слабый» характер: они сближаются с сохранением самостоятельности и возможности дальнейшего развития. Представ- ленное понимание конвергенции отличается от «сильного» варианта понимания сущности конвергенции в философии науки и техники (М. Роко и В. Бейнбридж, Д.И. Дубровский, Д.А. Медведев).
В контексте полученного вывода следует ответить на вопрос о причинах радикального противопоставления двух традиций в современной философской антропологии. Первая из них связана с ошибкой атрибуции, когда неклассические варианты эссенциализма в антиэс-сенциалистской традиции отождествляются с метафизическим эссенциализмом «вечных и неизменных сущностей» классической философии. Подобная инерция философского сознания наносит большой вред философско-антропологическому дискурсу современности, поскольку фундирует постмодернистский отказ от достижений неклассического эссенциализма. Вторая причина носит концептуальный характер: эмансипация антиэссенциалистской традиции от эссенциализма, особенно в его классическом варианте, и взаимная критика двух традиций делают внутренне противоречивой даже постановку проблемы их сближения. В этой ситуации выглядит закономерным, что сближение неклассического эссенциализма и антиэссенци-алистской традиции начинается на стыке науки и философии (Э. Фромм, В. Франкл), где метафизическая абсолютизация положений концептуальных систем философии отступает под давлением новых научных фактов.
В контексте философской антропологии начала XXI в. становится очевидным тупиковый характер стратегии догматического отстаивания «чистоты концептуальных рядов». Необходим широкий диалог представителей неклассического эссенциализма и антиэссенциалистской традиции по определению общих положений и осознанию принципиальных различий в контексте развития конвергентных технологий. Данный диалог настоятельно требует дальнейшего развития каждой из традиций философского понимания человека в изменившейся социально-культурной ситуации.
Список литературы Конвергенция эссенциалистской и антиэссенциалистской традиций в современной философской антропологии
- Бубер М. Я и Ты//Два образа веры. М.: Республика, 1995.
- Вальверде К. Философская антропология. М.: Христианская Россия, 2000.
- Гелен А. Образ человека в свете современной антропологии//Личность. Культура. Общество. 2007. Вып. 3. С. 37-51.
- Гиренок Ф.И. Антропологические конфигурации философии//Философия науки. Т. 8. М.: ИФ РАН, 2002. С. 409-426.
- Гуревич П.С. Апофатический проект человека//Вопросы философии. 2013. № 8. С. 42-53.