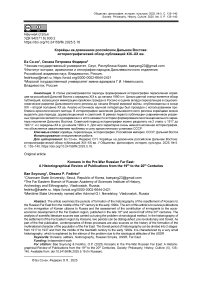Корейцы на довоенном российском Дальнем Востоке: историографический обзор публикаций XIX–ХХ вв.
Автор: Бэ Со-ен, Федирко О.П.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 5, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются периоды формирования историографии переселения корейцев на российский Дальний Восток с середины XIX в. до начала 1990-х гг. Целью данной статьи является обзор публикаций, касающихся иммиграции корейских граждан в Россию и оценки вклада переселенцев в социоэкономическое развитие Дальневосточного региона до начала Второй мировой войны, опубликованных в конце XIX – второй половине ХХ вв. Анализ источников научной литературы был проведен с использованием проблемно-хронологического метода. В историографии заселения Дальневосточного региона корейцами можно выделить два периода: дореволюционный и советский. В рамках первого публикации современников указанных процессов являются одновременно и источниками по истории формирования многонационального характера населения Дальнего Востока. Советский период историографии можно разделить на 2 этапа: с 1917 до 1937 гг. и с середины ХХ в. до начала 1990-х гг. Для него характерна очень немногочисленная историография, что объясняется замалчиванием проблемы в силу идеологических установок СССР.
Корейцы, переселенцы, историография, Российская империя, СССР, Дальний Восток
Короткий адрес: https://sciup.org/149147958
IDR: 149147958 | УДК: 94(571.6):930.2 | DOI: 10.24158/fik.2025.5.16
Текст научной статьи Корейцы на довоенном российском Дальнем Востоке: историографический обзор публикаций XIX–ХХ вв.
Введение . Иммиграция корейцев на российский Дальний Восток происходила неравномерно: в разные отрезки времени ее волны отличались друг от друга по многим параметрам, в том числе по отношению российских властей к переселенцам, численности участников и характеру миграции. В настоящей работе нас интересуют дореволюционный и советский периоды отражения данного процесса в публикациях исследователей.
Целью статьи был определен историографический обзор публикаций конца XIX – второй половины ХХ вв. по истории корейского переселения на Дальний Восток и оценке вклада мигрантов в социоэкономическое развитие региона до начала Второй мировой войны.
Актуальность исследования обусловлена повышенным вниманием современного научного сообщества к проблемам миграции и специфике развития такого удаленного от центра страны региона, как Дальний Восток.
Анализ публикаций был проведен с использованием проблемно-хронологического метода.
Дореволюционный период историографии проблемы корейской миграции на Дальний Восток . В обозначенный период публикации научного сообщества, посвященные корейским переселенцам на Дальний Восток Российской империи, носят описательный характер. Ряд авторов очерчивал географические и временные особенности корейской миграции в регион, основываясь на собственных наблюдениях. Чаще всего это были люди, которые по долгу службы должны были быть проводниками государственной политики на Дальнем Востоке России1 (Ун-тербергер, 1912, 1900; Арсеньев, 2012).
Руководя экспедицией в Южно-Уссурийском крае в 1867–1869 гг., Н.М. Пржевальский также заинтересовался проблемой переселения в Южно-Уссурийский край и совершил свое первое серьезное путешествие, описав его в нескольких статьях, опубликованных в «Известиях Географического общества». Корейцы произвели на него благоприятное впечатление. Оценивая переселение их в регион как положительное явление, он характеризовал корейцев тем, что они «отличаются трудолюбием и совершенной чистотой, в отличие от китайцев – грязных донельзя… Физиономии корейцев довольно приятны, хотя стан их, в особенности женщин, далеко не может назваться стройным… Вообще услужливость, вежливость и трудолюбие составляют, сколько я мог заметить, отличительную черту характера корейцев, которые в этом случае стоят бесконечно выше своих соседей-китайцев – манз, грубых и донельзя жадных на деньги»2.
В то же время Н.М. Пржевальский высказывал определенное опасение по поводу масштабов миграционных потоков корейцев. Он отмечал: «Конечно, в настоящее время, когда корейские колонии существуют так недавно, еще нельзя дать о них определенного мнения, но, мне кажется, следует на время приостановить дальнейший прием корейцев в наши пределы, по крайней мере, до тех пор, пока сколько-нибудь выяснятся результаты, которых можно ожидать от этих колонистов»3.
Работа В.И. Вагина «Корейцы на Амуре»4 важна как один из первых источников о жизни корейцев, в котором собрана информация о быте, хозяйственной деятельности, обрядах корейцев. Он подробно описал процесс переселения корейцев в Россию. В.И. Вагин считал, что их методы земледелия лучше приспособлены к условиям Дальнего Востока и рекомендовал русским колонистам перенимать опыт у корейцев5.
В.В. Граве предоставил статистику по колонизации корейцев на Дальнем Востоке и предложил поддержать миграцию корейцев государственными мерами6.
П.Ф. Унтербергер, губернатор Приморской области и Приамурский генерал-губернатор после Русско-японской войны, был против переселения корейцев на Дальний Восток, считая их угрозой для русских колонистов и безопасности России. Он утверждал, что корейцы «создают зло» для местных жителей, не способны к ассимиляции и могут образовать внутри России «государство», а в случае войны с Японией или Китаем представляют «из себя чрезвычайно благоприятную почву для широкой организации нашими врагами шпионства» (Унтербергер, 1912: 419). «Выгоднее иметь на Дальнем Востоке неосвоенные пустующие земли, чем территории, занятые “жёлтым элементом”» (Унтербергер, 1912: 61). Общественный деятель объяснял свою позицию низкой степенью ассимиляции корейцев, тем, что большинство из них не знали русского языка и не стремились говорить на нем, ориентацией на замкнутость в мире собственной общины. Более того, П.Ф. Унтер-бергер считал, что обрусения корейцев ждать в ближайшее время не приходится, так как их менталитет и образ жизни коренным образом отличались от славянского (Унтербергер, 1912: 86).
Исследователь яростно критиковал предложения по решению «корейского вопроса на Дальнем Востоке», которые должны были улучшить ситуацию: создание корейских обществ для укрепления «патриотических связей» между корейцами и русскими, открытие корейских школ, проведение церковных служб на корейском языке и т.д. Все это, по его мнению, могло привести лишь к еще большему развитию корейского сепаратизма (Унтербергер, 1912: 91).
Особое внимание П.Ф. Унтербергер уделял вопросам контроля и механизмам взаимодействия российской администрации и общества с корейским переселенцами. Генерал-губернатор отмечал, что среди российских чиновников очень мало знающих корейский язык и способных осуществлять полноценный контроль за мигрантами, что приводило к конфликтам и недопониманию администрации региона и корейского населения (Унтербергер, 1912: 84).
С переселенцами работали миссионеры Русской православной церкви – хотя лишь немногие из них знали корейский язык, число крещенных корейцев все время росло. Но, как отмечал генерал-губернатор П.Ф. Унтербергер, большинство из новообращенных в православие воспринимали обряд крещения как формальность, обязательный этап перед принятием российского подданства, и после него теряли связь с христианством (Унтербергер, 1912: 91).
Следует сказать, что антикорейская позиция П.Ф. Унтербергера оказала значительное влияние на мнение других исследователей, касающееся места корейских переселенцев в социокультурном, политическом и экономическом пространстве Дальнего Востока. Так, Н.А. Насекин, старший чиновник при Приамурском генерал-губернаторе, разделял точку зрения П.Ф. Унтербергера, но проявлял свое мнение более умеренно. Его исследования основаны на документальных сведениях и личных наблюдениях, описывающих историю и социально-экономическое положение корейских иммигрантов с 1864 по 1895 гг. Н.А. Насекин провел обзор корейских поселений и изучил различные аспекты их жизни для решения вопроса их административного устройства1.
Особо ценными для нас являются материалы этого исследователя, касающиеся действовавших в Приамурском крае корейских школ. В своей работе «Корейцы Приамурского края» он приводит подробные статистические данные о численности обучающихся детей, об уровне подготовки учителей, о материальном обеспечении корейских школ. Проведя подробный анализ уровня образования в корейских селах, исследователь делает вывод о необходимости расширения сети школ, подчеркивая важность того, что должны открываться прежде всего русские школы2. По его мнению, это должно было способствовать адаптации переселенцев к российскому обществу. При этом «преобразование может быть достигнуто без всяких материальных затрат со стороны правительства, так как средства для подъема школы на должную высоту дадут корейцы»3.
Чиновник, как профессиональный этнограф, описывает устройства селений, архитектуру домов, внутреннее убранство манз и дворов4; дает подробное описание рациону питания, процессу приготовления пищи, особенностям одежды5; раскрывает тонкости корейского языка и про-изношения6; дает подробное описание характера корейцев и их религиозных воззрений7.
В заключении своей работы Н.А. Насекин приводит обзор мнений некоторых авторов, ранее занимавшихся изучением корейской колонизации, и делает ряд выводов, которые позволяют оценить вклад корейского населения в развитие Дальневосточного края и позицию исследователя в отношении этого вопроса. Он отмечает, что если первично корейские переселенцы, осевшие в Южно-Уссурийском крае, «приносили ему пользу как производители хлеба, то теперь с увеличением здесь русского элемента, надобность в них уменьшается из года в год; к тому же и способ обработки ими почвы совершенно хищнический»8. Но обойтись без них в этом районе
Дальнего Востока, особенно в Северо-Уссурийском крае, по его мнению, невозможно, так как русские поселенцы отказываются туда переселяться – слишком сложные там условия для ведения земледельческих работ.
Для улучшения ассимиляции корейских мигрантов Н.А. Насекин считал необходимым применять к ним «временные правила по устройству сельских обществ и их управлений в Амурском крае»1.
Подробный исторический обзор переселения корейцев и их взаимодействия с российским административным аппаратом в процессах ассимиляции с населением российского Дальнего Востока опубликован В.К. Арсеньевым. Исследователь отмечал, что «в вопросе о принятии корейцев в русское подданство есть две стороны – положительная и отрицательная» (Арсеньев, 2012: 246). Приведя целый комплекс аргументов, он считал, что мигрантов из Кореи «лучше было бы оставить в положении иностранных подданных, в котором они находятся в настоящее время, предоставив им право пользоваться землей на арендных условиях, как и раньше» (Арсеньев, 2012: 247).
Именно эти люди и сторонники их точек зрения на переселение корейцев на Дальний Восток в своих отчетах и заметках описали множество деталей, характерных для этого процесса. Главная отличительная черта таких трудов – они содержат рассмотрение вопросов о формировании корейского населения в дальневосточных областях с позиций решения внутренних задач края и обеспечения международных интересов в России в этом регионе. Исследователи опасались влияния других культур на край и считали, что укрепление позиций России требует увеличения русского населения с опорой на законодательные акты того времени.
Труды ученых дореволюционного периода не потеряли своего значения и до нашего времени благодаря большой насыщенности фактическим и статистическим материалом, который был взят из официальных документов, переписей населения, отчетов о специальных командировках и т. д. Многие из авторов публикаций, хотя и не преследовали чисто научных целей, тем не менее создали подробную картину жизни корейских иммигрантов. Культура земледелия корейских крестьян, ее проникновение в русские хозяйства и влияние на экономическое развитие Дальнего Востока России стали предметом описания в публикациях дореволюционного периода2.
Историография проблемы корейской миграции на Дальний Восток советского периода . В советское время историографии, посвященной корейской иммиграции на Дальний Восток России, выделяются два периода: с 1917 по 1937 гг. и с 1966 до 1990-х гг.
Хронологические рамки первого из них определяются революцией и последующими за ней изменениями в государственной политике, а также депортацией дальневосточных корейцев в советские среднеазиатские республики. Он характеризуется многочисленными статьями, в основном затрагивающими вопросы участия корейцев Дальнего Востока России в антияпонской борьбе за независимость Кореи и установление советской власти в этом регионе (Федирко, Бэ Соён, 2017).
В 1924 г. вышли статьи С.Е. Кремянского (Кремянский, 1924) и Н.Н. Салтыкова (Салтыков, 1924), в которых авторы на основе сельскохозяйственных переписей на Дальнем Востоке в 1917 и 1923 гг. пытались показать динамику численности различных национальных групп населения, включая корейцев, и осветить некоторые стороны их жизни.
Научная работа Л.В. Крылова содержит подробный анализ корейского земледелия (Крылов, 1926).
Статья И. Киммангема посвящена участию корейского населения в советском строительстве (Киммангем, 1926). Для автора характерны резкие оценки политики царского правительства по отношению к корейцам.
Исследованию проблем, связанных с формированием корейского населения в Приамурском крае, посвящена вышедшая в 1928 г. работа С.Д. Аносова (Аносов, 1928).
Период с 1938 по 1964 гг. характеризуется полным замалчиванием в советских научных исследованиях истории репрессированных народов, в том числе и корейцев Дальнего Востока. Отдельные крупицы знания по проблеме можно найти лишь в контексте смежных исследований (По-ловинчук, 1957).
С 1965 г. после частичной «реабилитации» последних, стали появляться отдельные работы по истории их проживания в России, акцент в которых делался на участии корейцев в революционных событиях и борьбе за установление советской власти.
Книга Ким Сын Хва3 – важное исследование истории корейцев в России и СССР с 1860-х до 1950-х гг. Автор рассматривает корейскую иммиграцию, участие корейцев в движении против Японии, создание ими партизанских отрядов и вклад в укрепление советской власти, а также участие в строительстве социалистического общества.
Работа Кима Сын Хва имеет большую ценность, поскольку ему удалось изучить длительный период истории корейцев в России, несмотря на сложности с доступом к архивным документам. Его заслуга состоит в том, что он первым среди советских историков обратил внимание на проблемы формирования корейской диаспоры в России.
В отличие от труда Кима, другие исследователи либо полностью игнорировали факт существования корейской общины в России и ее роль в освоении Дальнего Востока, либо описывали события поверхностно и односторонне из-за идеологических ограничений и цензуры. К примеру, в книге «50 лет советскому Приморью»1, которая представляет собой хронологическое перечисление событий 1917–1967 гг. с краткими описаниями, не найти ни одного упоминания о корейцах2.
Отдельные публикации об исследуемой проблеме вышли за рубежом (Хён Гю Хван, 1967).
Заключение . Таким образом, в историографии проблемы переселения корейцев на Дальний Восток можно выделить два периода: дореволюционный и советский. Современные исследования в настоящей работе не анализировались.
В рамках дореволюционного периода публикации современников указанных процессов являлись одновременно и источниками по истории формирования многонационального характера населения Дальнего Востока. Но для нас публикации П.Ф. Унтербергера, Н.М. Пржевальского, В.В. Граве, В.Д. Песоцкого, Ф. Вебеля, А.А. Риттиха, Н.А. Насекина, В.И. Вагина и других представляют интерес как материалы, в которых содержится отношение власти и обычных граждан к переселенцам из Кореи, анализируется их вклад в социоэкономическое развитие региона, просчитываются преимущества и риски формирования корейской диаспоры в регионе. Среди авторов публикаций можно выделить тех, кто считал, что применение труда переселенцев-корейцев оказало благотворное влияние на развитие региона — это Н.М. Пржевальский, В.И. Вагин, В.В. Грабе и др. Они утверждали, что требуется более детальная разработка правового механизма закрепления корейцев на Дальнем Востоке и их последующей адаптации к законам Российской империи.
Для советского периода историографии по «корейской» проблеме характерны очень немногочисленные публикации, и объяснений этому явлению несколько. С одной стороны, советская власть на Дальнем Востоке была установлена только в конце 1922 г., а депортация корейского населения была осуществлена в 1937 г. Таким образом, за пятнадцатилетний срок не могло появиться многочисленной историографии. Кроме того, в условиях становления советской власти, вынужденной эмиграции большей части дальневосточной интеллигенции создавать научные публикации было просто некому. К тому же, корейский вопрос «размывался» внутри большой проблемы, которую решали дальневосточные власти – формирование новой национальной политики СССР.
Второй этап историографии советского периода, посвященной миграции корейцев на Дальний Восток до начала Второй мировой войны, начинается в середине ХХ в. До этого времени публикаций по данной тематике не было. Молчание исследователей было связано с идеологическими установками и запретом на освещение истории «спецпереселенцев». В 1960-х гг. начинают появляться отдельные публикации авторов – корейцев по национальности, посвященные депортации соотечественников-переселенцев не только с Дальнего Востока, но и из других регионов СССР.
Изучение вклада корейцев в развитие довоенного Дальнего Востока во второй половине ХХ в. не предпринималось.