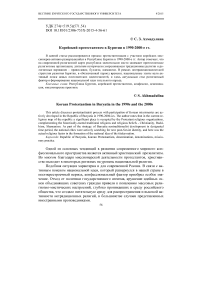Корейский протестантизм в Бурятии в 1990-2000-е гг
Автор: Ахмадулина Светлана Зиннатовна
Статья в выпуске: 4, 2015 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассматривается процесс протестантизации с участием корейских миссионеров активно развернувшийся в Республике Бурятия в 1990-2000-е гг. Автор отмечает, что на современной религиозной карте республики значительное место занимают протестантские религиозные организации, дополняя исторически укоренившиеся традиционные религии и религиозные верования - православие, буддизм, шаманизм. В рамках неотрадиционалистской стратегии развития Бурятии, в обозначенный период времени, национальные элиты вели активный поиск новых постсоветских идентичностей, и здесь актуальным стал религиозный фактор в формировании национальной идеи титульного народа.
Республика бурятия, корейский протестантизм, конфессии, деноминации, миссионерские практики
Короткий адрес: https://sciup.org/148317390
IDR: 148317390 | УДК: 274(=519.5)(571.54) | DOI: 10.18101/2306-753X-2015-4-56-61
Текст научной статьи Корейский протестантизм в Бурятии в 1990-2000-е гг
Одной из основных тенденций в развитии современного мирового конфессионального пространства является активный христианский прозелитизм. Во многом благодаря миссионерской деятельности протестантов, христианство выходит в некоторых регионах на уровень национальной религии.
Подобная ситуация характерна и для современной России. В связи с активным поиском национальной идеи, который развернулся в нашей стране в постперестроечный период, конфессиональный фактор приобрел особое значение. Отход от политики государственного атеизма, крушение идейных основ объединявших советских граждан привели к появлению массовых религиозно-мистических настроений, глубоко проникавших в среду российского общества, что создало питательную среду для распространения и высокой активности нетрадиционных религий, в большинстве случаев представленных иностранными проповедниками.
В результате активной пасторской деятельности иностранных миссионеров в различных субъектах страны существенным образом изменилась этно-конфессиональная структура, в том числе и одной из национальных республик – Бурятии.
На современной религиозной карте республики значительное место занимают протестантские религиозные организации, дополняя исторически укоренившиеся традиционные религии и религиозные верования – православие, буддизм, шаманизм. Сегодня только в столице – г. Улан-Удэ и его пригородах действуют более десяти христианских общин, объединенных в несколько союзов, крупнейшими из которых является Централизованная религиозная организация «Церковь христиан веры евангельской в Бурятии» и Ассоциация Христианских Церквей «Союз Христиан» в Республике Бурятия, хотя и они имеют различные (но родственные) ориентации: евангельскую, пресвитерианскую, лютеранскую и пятидесятническую. Вот только некоторые из них: Церковь Христиан веры Евангельской «Надежда», Христианская Пресвитерианская церковь «Шалом», Церковь христиан веры Евангельской Христа Спасителя, Христианская Пресвитерианская Церковь пос.Усть-Брянь, Христианская Церковь «Богатый урожай» (пос.Нижние Тальцы), Христианская церковь «Благовестие», Христианская церковь «Торжествующий Сион»1 и др.
Особо отметим интерес к протестантизму со стороны титульного населения региона. Подобная ситуация стала возможной в силу ряда причин. С одной стороны, в постперестроечный период Республику Бурятию, как и многие другие регионы страны, отличали депрессивные экономические показатели и глубокая социально-экономическая трансформация общества. Падение уровня жизни привело к безработице, резкому снижению демографических показателей, росту преступности и общему обнищанию населения2. В сложившихся условиях религия стала определенным утешением и надеждой на лучшее будущее, а для кого-то включенность в религиозные отношения являлась единственно возможным средством выживания. С другой стороны, либеральные законодательные изменения в области религиозного права способствовали процессу легализации различных конфессий, в том числе и новых религиозных движений.
В рамках неотрадиционалистской стратегии развития Бурятии, в обозначенный период времени, национальные элиты вели активный поиск новых постсоветских идентичностей, и здесь актуальным стал религиозный аспект в формировании национальной идеи титульного народа1. Безусловно, обсуждались варианты в рамках традиционных для региона религиозных структур, однако социальной реальностью стало усиление протестантских объединений, среди которых были и корейские церкви.
Корейские миссионеры впервые появились в Бурятии в середине 1990-х гг., и уже к середине 2000-х гг. действовало десять пресвитерианских церквей (четыре из которых были зарегистрированы официально) и три группы Yoido Full Gospel Church2. По мнению исследователя корейского протестантизма Ю.С. Ковальчук: «Развитие корейских церквей в Бурятии, было обусловлено наличием корейской диаспоры и ее высоким административным статусом. Национально-культурная автономия корейцев Бурятии была создана в 1990 г. и состояла из 320 корейцев; ассоциация имела тесные связи с корейцами Японии, Китая, Приморского, Хабаровского краев и Сахалинской области»3. Однако, безусловно, это являлось только одной из причин популярности корейского протестантизма.
В качестве примера рассмотрим возникновение пресвитерианской церкви, основоположниками которой выступили корейцы Ким Гын Гон (пастор церкви «Любовь») и Ли Чан Бэ (пастор церкви «Антиохия»), именно они в январе 1995 г. открыли богослужение по домам верующих улан-удэнцев. Уже через год активной миссионерской практики в церквях появляются первые домашние группы по изучению Священного Писания из местных служителей. А после приезда доктора теологии пастора Вон Сон Уп при церкви была открыта Библейская семинария4. На сегодняшний день география движения достаточно обширна, общины пресвитериан имеются не только в г.Улан-Удэ, но и в п. Онохой, Заиграево, Тарбагатай, Усть-Брянь, Турка, Кижинга, Тап-хар, Оронгой, Большой Куналей и др.5.
Примечательно, что несмотря на более позднее, в отличие от других протестантских организаций, возникновение пресвитерианской церкви она является практически единственной, у которой подавляющее большинство прихожан составляют буряты – 80%. По мнению исследователей бурятского протестантизма А.А. Бадмаева и Д.М. Маншеева выбор бурят в пользу пре- свитерианства объясняется, прежде всего, этническим фактором: основателями являются южнокорейские проповедники, поэтому бурятами она рассматривается как азиатская, соответственно более близкая, в отличие от других протестантских церквей1. В этом ключе внимание ученых привлек доклад об этнокультурной близости древних корейцев к народам Саяно-Алтая, в том числе к бурятам, доктора исторических наук, профессора Института Внутренней Азии Н. В. Абаева, озвученный им на конференции «Идентичность Когурё» в г. Сеуле (Республика Корея, 2004 г.)2.
Вполне возможно, что воспринятый на уровне общественного дискурса факт этнокультурной близости способствовал утверждению корейских протестантов в Республике Бурятии. Учитывая при этом наличие различных социальных и реабилитационных программ, серьезную финансовую поддержку из-за рубежа, что также обеспечило усиление влияния протестантизма в бурятской среде.
По мнению пресвитерианского пастора В. И. Колмынина3 , в Бурятии рост рядов деноминации гораздо ниже, чем в соседних регионах – Читинской, Иркутской областях и Монголии4. Однако, если учитывать успешность ее миссионерства именно в бурятской этнической среде, развитие этого течения не кажется таким уж и медленным. Одним из основных акцентов в миссионерской практике пресвитериан является широкое привлечение в лоно церкви молодежи и людей средних лет, а также подготовка и распространение религиозной литературы на бурятском языке.
Сегодня в республике стали говорить о феномене «бурятского протестантизма». Один из местных исследователей истории английской духовной миссии в Забайкалье А. В. Тиваненко отмечает, что «бурятский протестантизм представляет особую религиозную культуру, сохраняя христианскую позицию в отношении непререкаемого авторитета Библии и вместе с тем оказывается способной воспринимать культуру бурятского народа в ее самобытности, и, стремясь сохранить авторитет Евангелия, бдительно следит за тем, чтобы не умалять достоинство человеческой личности»1. Однако здесь необходимо учитывать и собственные религиозные предпочтения автора.
Схожая точка зрения прослеживается в работе О. Н. Волковой, по мнению которой именно через евангельскую веру многие граждане Бурятии обрели смысл жизни и, следовательно, идентификацию личности. В поисках смысла жизни люди приходят в евангельские церкви и становятся последователями протестантского вероучения. Содержание проповедей пасторов Бурятии главным образом отражает повышенный интерес протестантизма к внутреннему, личностному миру человека. Размышления, как профессиональных проповедников, так и рядовых верующих, обнаруживают глубокую проницательность в понимании человеческой духовности2.
Прямо противоположным, относительно влияния на бурятскую культуру, является позиция автора ряда работ по истории развития протестантизма среди народов южной Сибири Д. Маншиева: «Эти церкви несут в себе западную ментальность, адаптированную к Бурятии, но в конечном итоге они способствуют стиранию национальной культуры. Они привлекательны в глазах молодежи, занятой духовными поисками. А старшее поколение чаще всего ищет выход из кризисных ситуаций. Активно верующие находят в общинах участие, спасаются от одиночества, а некоторые от алкоголизма и наркома-нии»3.
В целом, мы можем отметить, что на постсоветском пространстве возрождающейся религиозной жизни «корейский протестантизм» стал явлением, с которым россияне столкнулись впервые. Этот период времени совпал с системным кризисом государства, с открытием границ, либерализацией религиозного законодательства и как следствие возрождением традиционных духовных ценностей и активной проповеднической деятельностью миссионеров преимущественно европейских, американских и корейских церквей. В силу определенной «агрессивности» миссионерских практик, способностей протестантских церквей адаптироваться в иных социо- и этнокультурных условиях, существенным образом изменилась этноконфессиональная структура во многих национальных регионах страны - Республика Бурятия, Тыва, Хакасия, Алтай. У прихожан протестантских церквей сформировалась новая конфессиональная идентичность, хотя это и не предполагает нивелировку их этнической идентичности.
В свою очередь, корейские пасторы имеют ряд отличительных особенностей в работе с этническими сообществами, проходящими модернизационный этап развития. Так как сам корейский протестантизм является продуктом религиозной модернизации традиционного общества, он предлагает собственные стратегии адаптации к изменившимся социально-экономическим условиям. Возможно, именно в этом и состояла главная привлекательность протестантизма в переходный период времени для коренных народов национальных регионов России, в том числе и для Бурятии.
Таким образом, современная религиозная картина свидетельствует о закреплении позиций протестантизма в духовной жизни региона. Однако возникают проблемы, непосредственно затрагивающие государственные интересы. Появилось такое понятие как «духовная безопасность», и в этой связи особую актуальность и на сегодняшний день имеет проблема оценки миссионерской деятельности зарубежных религиозных организаций.
Список литературы Корейский протестантизм в Бурятии в 1990-2000-е гг
- Абаев Н. В. Идентичность «Танну-Урянхая» и «Урянхайская проблема» / Н. В. Абаев // Идентичность Когурё. - Сеул: Изд-во Институт Когурё, 2004.
- Ахмадулина С. З. Пресвитериане / С. З. Ахмадулина, П. К. Варнавский // Религиозные организации Республики Бурятия: словарь-справочник / сост. С. В. Васильева и др. - Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 2011. - С.146-148.
- Бадмаев А. А. О протестантских общинах г. Улан-Удэ / А. А. Бадмаев, Д. М. Маншеев // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2004. - Т.X, ч.II. - С.9-13.
- Бадмаев А. А. Протестантизм и народы Южной Сибири: история и современность / А. А. Бадмаев, Ч. О. Адыгбай, В. А. Бурнаков, Д. М. Маншеев. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. - 168 с.
- Васильева С. В. Власть и старообрядцы Забайкалья (конец XVII - начало ХХ вв.) / С. В. Васильева. - Улан-Удэ, 2007. - 233 с.