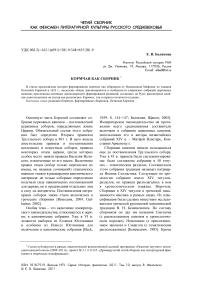Кормчая как сборник
Автор: Белякова Елена Владимировна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Четий сборник как феномен литературной культуры русского средневековья
Статья в выпуске: 8 т.10, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье представлена история формирования кормчих как сборников от Номоканона Мефодия до издания Печатной Кормчей в 1653 г., выделены общие закономерности и особенности славянских собраний церковных канонов; прослежены основные закономерности формирования редакций, созданных на Руси; рассмотрено влияние книгопечатания на состав как рукописных Кормчих, так и первого печатного издания.
Редакции кормчих, формирование сборников, печатная кормчая
Короткий адрес: https://sciup.org/14737598
IDR: 14737598 | УДК: 002.2(=163.1)(091)+281.9:348+655:281.9
Текст научной статьи Кормчая как сборник
Основную часть Кормчей составляет собрание церковных канонов – постановлений церковных соборов, определяющих жизнь Церкви. Обязательный состав этого собрания был определен Вторым правилом Трулльского собора в 691 г. В него вошли апостольские правила и постановления вселенских и поместных соборов, правила некоторых отцов церкви, среди которых особое место заняли правила Василия Великого, извлеченные из его писем. Включение правил отцов (собор только перечислил их имена, не называя сочинений) становилось важным этапом в расширении канонического материала: не только соборные определения получали силу канонических постановлений для церкви, но и предписания отдельных лиц в силу их авторитета. Постановления патриарших соборов также стали включаться в греческие сборники [Никодим, 2004. Gallacher, 2002].
Особая тема – это включение императорского законодательства, относящегося к церкви, в канонические собрания. Уже в VI в. делаются выборки из Кодекса Юстиниана и особенно из Новелл Юстиниана для включения в канонические собрания [Beck,
1959. S. 144–147; Белякова, Щапов, 2005]. Императорское законодательство на протяжении всего средневековья составители включали в собрания церковных канонов, использовали его и авторы византийских собраний XIV в. – Матфей Властарь, Кон-станин Арменопул.
Сборники канонов начали складываться еще до постановления Трулльского собора. Уже в VI в. правила были систематизированы: было составлено собрание в 50 титулах – тематических разделах. Составителем этого собрания традиция называет патриарха Иоанна Схоластика. Следующее по хронологии собрание имело XIV титулов-разделов, но правила располагались в нем в хронологическом порядке. Впрочем, Сборники в XIV титулов в греческой письменности имелись в разных видах. Их классификация была сделана известным исследователем греческой рукописной канонической традиции В. Н. Бенешевичем. По составу сборников он дал им названия Синтагма (с расположением канонов в хронологическом порядке), Номоканон (с присоединением законов) и Синагога (с тематическим расположением) [Бенешевич, 1905]. Кроме того, имелись еще синоптические собрания канонов, где вместо самих правил приводится их краткое содержание. В XI в. сборники пополнились толкованиями. Кроме известных канонистов Алексея Аристина, Иоанна Зонары и Федора Вальсамона в сборники включались и другие авторы толкований, а также новые постановления константинопольских синодов. Многие из канонических сборников содержат и императорские новеллы, а также полемические сочинения против еретиков и латинян. О разнообразии греческих канонических сборников свидетельствуют их списки, находящиеся в Синодальном собрании ГИМ и привезенные, в основном, с Афона.
Таким образом, у переводчиков на славянский имелась как определенная возможность выбора сборника по составу, так и возможность соединения разных типов сборников. Степень изученности греческих канонических текстов не позволяет делать выводы о том, с какими культурными центрами связаны определенные типы канонических сборников.
О переводе Номоканона имеется сообщение в житии Мефодия. Древнейшим переводом является перевод Синагоги в 50 титулах. Дошедшие два списка – Устюжский 1 и Иоасафский 2 – содержат Синагогу с большими сокращениями. Этими списками начинается в славянской традиции история сокращенных сводов.
Сокращенные своды имеются как производные от всех редакций славянских переводов. Это особый тип канонических сборников 3. Он намного разнообразней по своему составу, чем сборники с полным составом правил. Обычно эти сборники включают помимо сокращенных собраний канонов тексты, связанные с духовничест-вом, – епитимийные номоканоны, наставления исповедующим. Это сближает их с другим типом сборника – Требником (в греческой традиции – Евхологием). В составе Требников встречается известный в греческой и латинской традициях Номоканон Иоанна Постника – собрание наставлений для духовника. Чин исповеди, помещаемый в Требники, мог включать и сокращенные собрания правил. Именно как дополнения к Требнику и появились впоследствии первые печатные издания славянских канонических собраний [Павлов, 1897].
Помимо сокращенной редакции, собрания канонов рукописи, в которых дошел Мефодиевский Номоканон, содержат значительные подборки правил из так называемой Древнеславянской редакции, тематическую подборку законов «о епископах и мнихах» и ряд других. Статьи из состава этих сборников имеются и в собрании Русской редакции Кормчей (статьи «О черноризцах правила»; Устав Иоанна Пателари; Правила Федора Студийского, Закон судный людям, «Правило иереям, иже не облачаются в священные ризы» [Срезневский, 1897]). Исследователи сегодня не могут ответить на вопрос, по каким принципам делалась выборка канонов для дополнительной части этих сборников. В Устюжскую Кормчую входят и Заповеди святых отец – перевод латинского пенитенциала [Максимович, 2008].
Близость перевода отдельных канонов, на которую указывал еще И. И. Срезневский, возможно, свидетельствует о том, что переводчик Древнеславянской редакции был знаком с Мефодиевским Номоканоном. Вопрос о соотношении Устюжской Кормчей и Русской редакции остается открытым. Во всяком случае Устюжская Кормчая позволяет говорить о намерении составителей синтезировать или компилировать, объединять статьи из разных редакций. Эта тенденция и в дальнейшем проходит через всю историю Кормчей.
Как уже было отмечено, сокращенные своды разнообразны по составу. Их сравнительно небольшой объем открывал и широкие возможности для пополнения текста сборников. В отличие от полных собраний, где состав рукописи может воспроизводиться без внесения каких-либо изменений, писцы рукописей, содержащих сокращенные своды, как правило, по-разному дополняют свой протограф, и могут даже сокращать основную часть собрания канонов.
Полное собрание канонов в славянской традиции известно в списке XII–XIII вв. – это Ефремовский список так называемой Древнеславянской редакции. О месте ее перевода – Болгария [Щапов, 1978. С. 88–100] или Русь [Милов, 1980] – идет спор. Важно отметить, что известна греческая рукопись, текст которой в основной части почти полностью совпадает по составу с текстом славянской рукописи. Первая из названных рукописей XI в. из библиотеки Валличелиана в Риме (Vallic. 47), сама рукопись имеет следы позднейших добавлений XIII–XIV вв. Славянский переводчик воспроизвел состав греческой рукописи, почти не изменяя его. Изменения коснулись начала – сюда в славянский текст было внесено дополнение в виде Предисловия к Сборнику 14 титулов. Конец греческой рукописи, содержащий произведения исключительно юридического характера, в Древнеславянскую редакцию не вошел.
По сравнению с греческим протографом в Древнеславянской Кормчей имеется ряд дополнительных статей, но не в древнейшем Ефремовском списке, конец в котором отсутствует, а в более поздних списках. Это календарный трактат «великого книжника Антиохийского», Исповедание веры Михаила Синкелла, Послания Афанасия Александрийского князю Антиоху, Выписки из Прохирона и Эклоги, касающиеся браков [Щапов, 1978. С. 258–259]. Некоторые из этих статей входят в состав Изборника 1073 г. Послания Афанасия Александрийского князю Антиоху входят и в состав других сборников.
Ближайшая по времени рукопись Древнеславянской редакции XIII в. представляет собой уже сокращенный свод 4. Характер работы по сокращению рукописи был проанализирован Я. Н. Щаповым. Исследователь сделал вывод о том, что сокращения производились с целью сохранить основные, наиболее важные правила и удалить малоиспользуемые или неприменимые [Щапов, 1978. С. 44–45]. По сравнению с Ефремовским, конец которого утрачен, Уваровский список имеет еще несколько статей после Собрания в 93 главах. Но если с Ефремовского списка делались копии, хотя и во второй половине XV в., копии с Ува-ровского отсутствуют.
Следующий этап работы над славянскими каноническими сводами связан с Сербской редакцией. Современные сербские ученые, в частности издатели Иловицкого списка М. Петрович и Л. Штавлянин-
Джорджевич [Законоправило…, 2005], исходят исключительно из представления о Савве Сербском как переводчике и редакторе, хотя Л. Бургман и указал на рукопись из Ватиканской библиотеки конца XIII – начала XIV в. (Vatic. 1167), главы которой соответствуют большинству глав Сербской редакции [Burgmann, 1995]. Однако в указанной рукописи правила содержатся в кратком (синоптическом) виде, а толкования даны только Алексея Аристина, в то время как в Сербской редакции некоторые правила содержатся в полном виде, а ряд толкований приводится из Зонары. Вне внимания исследователей оставался сокращенный перевод правил с толкованиями Иоанна Зонары, находящийся в сербских Требниках с XIV в. Состав правил этого собрания не соответствует составу правил Иоанна Зонары, включенному в состав Сербской Кормчей. Однако перевод ряда правил очень близок по языку [Белякова, 2010а] Взаимосвязь этих собраний нуждается в дальнейшем исследовании, как и возможность использования при создании Сербской редакции греческой рукописи – Vatic. gr. 828) [Čičurov, 1998].
Несомненно, составитель Сербской редакции использовал и Древнеславянскую редакцию: из нее взяты статьи Анастасия Синайского (главы 52.1-2). Обе эти статьи имеются в греческом протографе Древнеславянской Кормчей.
Таким образом, можно говорить о том, что сербский редактор имел греческий протограф, но использовал еще и другие, предшествовавшие славянские переводы. В ряде случаев он мог редактировать текст, а не переводить заново, как, например, в правилах Гангрского собора или в Собрании в 87 главах.
Рукописи Сербской редакции отличаются значительной устойчивостью состава по сравнению с другими редакциями. Ее состав в 64 главах, известный уже по Иловицкой Кормчей 1262 г., оставался во многих рукописях неизменным, хотя и не во всех. Предложенная Я. Н. Щаповым классификация восточнославянских списков Сербской редакции Кормчих, остающаяся до сих пор единственной, исходит из количества глав: группа в 45 главах, группа в 55 главах; группа в 63 главах, группа в 64 главах. Важно отметить, что Сербская редакция в 64 главах называлась «суздальскими прави- лами» на Руси и в Даниловском изводе легла в основу Печатной Кормчей [Белякова, 2008].
По сравнению с Древнеславянской редакцией произошло значительное расширение состава уже в греческом протографе Сербской редакции. Появились добавления в блоке соборных правил – их состав был расширен за счет правил ап. Павла и ап. Петра; а также добавлены соборы IX в. (Правила Первого-Второго собора и Правила собора в Софии). Уже в греческом протографе Сербской редакции имелись дополнительные по отношению к основному тексту статьи, не носящие канонического характера: Послание Нила к Хариклию пресвитеру, Видение Диадоха. Появились и новые блоки, отсутствующие в греческом протографе: антилатинские и антиеретические статьи. В Сербской Кормчей появляются статьи из Евхология о приеме еретиков. Появился также вводный блок статей о соборах и статьи догматического характера, истолковывавшие молитвы и символ веры, а также блок статей догматического характера в заключительной части. Важным дополнением было и расширение законодательного блока: в Сербскую редакцию целиком включен текст Прохирона. Впервые в славянский свод были включены новеллы императора Алексия Комнина, касающиеся заключения браков (они имелись и в греческом протографе).
Таким образом, уже греческий протограф синтезировал каноническое собрание и Требник, что отразилось и в славянском каноническом своде.
Русская редакция, или редакция в 70 главах, представляет собой компиляцию из предшествующих сводов: Сербской Кормчей, Древнеславянской редакции и, возможно, Устюжской Кормчей.
Название «Книга, глаголемая Кормчая» появляется в заглавии уже наиболее ранней рукописи данной редакции – Новгородского списка 1282 г. 5 Оно существует в разных вариантах, в том числе и «Кормчии» 6, при этом сохраняются и греческое название «номоканон», и славянская калька «законо-правило». В описаниях монастырских библиотек рукописные Кормчие обычно назы- ваются «Правила» 7. Название «Кормчий» имеет собрание Максима Исповедника 8. Статьи Максима Исповедника завершают Мясниковскую редакцию Кормчей. В материалах Печатного Двора о Кормчей говорится как о «Книге правил» [Белякова, 2006]. С изданием «Книги правил» в 1839 г. происходит размежевание: название «Книга правил» по отношению к Кормчей уже не употребляется, в научной литературе издание 1653 г. называется исключительно Кормчей. Главной особенностью Русской редакции является соединение толкований с правилами как в полном, так и в синоптическом виде. В этом плане характер работы редактора близок к работе редактора Сербской Кормчей – он сознательно отбирал правила. Хотя в ряде случаев его выбор определялся не качеством перевода, а наличием текста. Иначе невозможно объяснить, почему он обратился к Древнеславянской редакции для Собрания в 87 главах, но после 61 главы перешел к Сербской редакции. Главное отличие от предшествующих редакций состоит в том, составитель Русской редакции не обращался непосредственно к греческим рукописям (во всяком случае, нет оснований для подобного утверждения), а использовал уже имевшиеся славянские переводы. Характер работы редактора исследован Я. Н. Щаповым и Л. В. Мошковой (для апостольских правил). Я. Н. Щапов предположил наличие двух этапов работы по составлению текстов: 1-го, когда производился строгий отбор, и 2-го, когда состав был пополнен без определенных требований. Состав редакции был пополнен и рядом русских текстов. Впервые в состав канонических текстов попали тексты русского происхождения: правила митрополита Иоанна, вопрошание Кириково, правила митрополита Кирилла, а также произведения Кирилла Туровского. Надо отметить, что три первых статьи представляют собой устойчивый блок, в то время как статья Кирилла Туровского идет в составе литургического блока. Не менее важным было включение и русских законодательных текстов – Русской Правды и Древнерусских церковных уставов. Это включение могло произойти лишь на периферии византийской ойкумены. В дальнейшем Русская Правда входит в состав большинства новых русских редакций и переписывается тогда, когда она не имеет практического значения.
Помимо статей русского происхождения в состав канонического свода были включены статьи различного характера: хронологические, литургические, учительные. Они не были переведены для свода, а заимствовались из других славянских сборников. Как правило, они не получили номера в оглавлении, что позволило Я. Н. Щапову предположить вторичность их появления. Так, после 23 главы «Избрание от Закона Мои-сееова» в Русской редакции появились статьи Закон Судный людям, Козьмы Халки-донского «О еже не звати жену госпожею», Вопрос Федору Сикеоту 9. После 38 главы появились две статьи Афанасия, мниха Иерусалимского. Эти статьи имеются в составе древнерусских сборников, и, возможно, произошло отождествление Афанасия Александрийского с автором поучения. Две новеллы императора Юстиниана, включенные в Собрание в 93 главах как главы 88 и 91–93, стали отдельными статьями: «Иустиниана царя 6-го собора кыя» и «Тыи же Василии к преблаженному епископу» 10. Их включение в качестве отдельных статей с искаженными заглавиями можно объяснить плохой сохранностью листов рукописи Древнеславянской редакции, использованной при создании Русской редакции.
Одной из особенностей Русской редакции являются значительные расхождения в составе ее списков. Можно говорить лишь о текстовом единстве по отношению к канонической части – здесь правила и толкования к ним имеют одинаковый текст. При неизменности составляющих основной части порядок статей в редакциях и списках не совпадает. Кроме того, появляются дополнительные блоки, отличающие списки. Необходимо отметить, что хронологически ближайший к Новгородско-Синодальному список – Чудовский Варсонофьевский – относится уже к XIV в. В него были включены две статьи Владимирского епископа, обращенные к князю с указанием на разграбление Успенского собора 11. Они не были ни внесены в оглавление, ни выделены в тек- сте. Эти статьи входят в блок дополнительных статей после 23 главы (см. выше). К уже имевшимся в Новгородско-Синодальном списке статьям, добавлены новые – «Поучение к попом за Кириллом», и 2 послания, которые включены без сохранения имени, однако вряд ли это сделано с намерением придать тексту «формулярный вид». По-видимому, какие-то утраты (возможно, киноварного заголовка), имелись уже в протографе. В конце Чудовского Варсонофьевского списка отсутствуют статьи «Речь жидовского языка», Русская Правда, Устав Святослава Новгородского, но есть статьи учительного характера Василия Великого 12.
Можно отметить несколько направлений, по которым в дальнейшем пошла работа по созданию новых редакций на основе Русской:
-
1) составление сокращенных сводов – Мясниковская редакция;
-
2) расширение состава путем включения дополнительных статей и использование статей Сербской редакции – Новгородско-Софийская редакция [Белякова, 2010б];
-
3) дополнение статей с использованием сборника Мерила Праведного и антилатин-ских сборников – Чудовская ред. [Корогодина, 2010];
-
4) составление систематических (синагогальных) сводов – Западно-русская (украинская) редакция [Мошкова, 2005];
-
5) включение канонического материала из пришедших от южных славян новых канонических собраний – сборника «Зинар» (Соловецкая Кормчая 1493 г.) и правил Иоанна Зонары.
Изменению подвергался не только состав Кормчей, редакторы перерабатывали и отдельные статьи, внося в них изменения. Как показало исследование, статья «Той же Василий Иоанну» значительно переработана в Мясниковской и Волынской редакциях.
Все указанные направления представлены в рукописях XV в., при этом наиболее ранние рукописи принадлежат к Мясниковской редакции. Во всех указанных редакциях по сравнению с Русской редакцией произошло расширение состава за счет включения дополнительных статей, в том числе и русского происхождения: были включены статьи, связанные с именем Феогноста Сарайского, митрополита Максима.
В некоторых списках Мясниковской редакции имеются послания тайнописью митрополита Киприана. Отметим, что ни послания митрополита Петра, ни послания митрополита Алексия не вошли в состав Кормчих, что указывает на отсутствие работы над каноническими сводами.
Каждая из редакций отражает разные этапы истории русской церкви, ее епархий, однако в настоящее время связь эту установить можно только гипотетически.
Мясниковская редакция может трактоваться по-разному: это или попытка создания сокращенного свода, близкого по смыслу к Мазуринской редакции [Белякова, 2000б], или заготовки, выписки для какой-то несостоявшейся или неизвестной работы по составлению канонического свода. Важно то, что в ней встречается Прохирон в полном составе, в то время как в рукописях Русской редакции он представлен в сокращенном виде. В Мясниковской редакции приводятся, в основном, не сами правила, а толкования к ним, при этом нумерация не всегда соответствует номеру правила, а указывает на порядок следования в данном собрании. В Мясниковской редакции расширен по сравнению с Сербской Кормчей блок статей о крещении еретиков. Наконец, в Мясниковской встречаются статьи, неизвестные в Русской редакции, но распространенные в сербской письменности: «Правило святых отец заповеди святаго великаго Василия», «Заповеди Иоанна Златоустаго».
Именно в Мясниковской редакции имеются послания митрополита Киприана, адресованные Сергию Радонежскому Феодору Симоновскому [РИБ, 1908. С. 173–186]. Можно высказать два предположения: 1) либо митрополит Киприан составил сокращенный канонический свод, включив в него русские памятники и свое послание, и отправил в Москву; 2) либо к сокращенному своду, который уже имелся в Симоновом монастыре, были добавлены послания Киприана. Федор, будучи поставленным на Ростовскую кафедру, мог принести с собой и этот сокращенный свод.
Во второй половине XV в. в русских монастырях переписываются две разные редакции – Новгородско-Софийская и Чудов-ская. Их списки имеются в собраниях Кирилло-Белозерского, Троице-Сергиева, Соловецкого монастырей. Названия этим редакциям были даны по наиболее ранним спискам. Но список Софийского собрания происходит из Кирилло-Белозерского монастыря, а в настоящее время стали известны Пермский список и Латгальские листы 50-х гг. XV в. – более ранние списки, чем Чудовский.
Если Новгородско-Софийская редакция связана, на наш взгляд, с автокефалией московской митрополии и она могла быть создана в Ростове [Белякова, 2010б], то объяснить параллельное распространение Чу-довской редакции можно тем, что она была создана на независимой от московской кафедры территории и не была известна здесь до Пермского списка, вложенного в Ферапонтов монастырь. В качестве такой кафедры могла выступать Тверь, куда Москва начинает ставить епископов с 1461 г., это мог быть и Полоцк. Мы предполагаем эти кафедры потому, что наиболее ранняя рукопись Мерила Праведного, бывшего одним из источников Чудовской редакции, связана с этими епархиями. Из Мерила Праведного в Чудовскую редакцию перешли завершающие статьи (начиная со статьи 101), хотя они и не представляют собой единого блока [Корогодина, 2009]. Тема обличения неправедных судей и защиты вдов вновь актуализировалась для составителя. К сожалению, наличие этой темы не может служить источником для датировки: она осталась навсегда актуальной для русской истории. Более важен значительный антилатинский блок, включивший редкие статьи, в частности Епистолию на римляне, Поучение от седми собора на латину, Петра Антиохийского к епископу Римскому об опресноцех, Послание митрополита Иоанна русского об опресноках. Эта тема актуализировалась для русской митрополии в связи с Флорентийским собором. Но достаточно ли этого, чтобы считать, что антилатинский блок, имевшийся уже в Сербской редакции не мог быть расширен до середины XV в.? Характерно, что антилатинские сочинения, созданные в связи с Флорентийским собором, не вошли в данную редакцию.
Наличие общих статей в Мясниковской и Чудовской редакциях позволяет говорить о том, что составитель Чудовской редакции либо имел в распоряжении список Мясниковской редакции, либо использовал общий для них протограф. В этой связи можно вспомнить св. Арсения Тверского, возглавлявшего Тверскую кафедру с 1390 по 1409 г.
и бывшего архидьяконом митрополита Киприана.
В последней четверти XV в. в московской митрополии происходят важные изменения: епископы в Тверь и Новгород поставляются в Москве и из московских кандидатов. Кроме того, в московскую митрополию прибывает епископ Евфимий из Брянска, захватившей с собой Кормчую, в которой Я. Н. Щапов предположил список Сербской редакции. Евфимий был назначен на Суздальскую кафедру.
В Кормчих этого периода можно проследить уже известные тенденции:
-
1) объединения разных редакций;
-
2) создание новых систематических (синагогальных) редакций;
-
3) расширение состава Кормчих за счет включения местного материала;
-
4) переработка или замена текстов отдельных статей;
-
5) перекомпоновка отдельных блоков.
Возникают редакции, объединяющие Сербскую и Русскую (Погодинская); Новгородско-Софийскую и Чудовскую (Годунов-ская), Чудовскую, Волынскую и Софийскую (Лукашевичская) [Корогодина 2010].
Новаторским явился труд митрополита Даниила по созданию Кормчей 13: здесь была сделана попытка не только свести разные редакции и правила, но и включить в качестве толкований к правилам значительный дополнительный материал – агиографический, юридический. Эта грандиозная работа, нацеленная на актуальные темы преследования еретиков, церковного землевладения и проч. в связи с судом над Максимом Греком, осталась неоконченной. На труд Даниила повлияли Пандекты Никона Черногорца, в которых канонический материал неразрывно переплетается с другими жанрами. Даниил широко пользовался как трудами Никона Черногорца, так и агиографическими сочинениями. По сути здесь происходило создание нового жанра, укладывавшегося в канонические собрания.
Работе митрополита Даниила предшествовал труд Вассиана Патрикеева по созданию систематической Кормчей. Кормчая Вассиана давно привлекала внимание исследователей. М. Корогодиной удалось выявить восемь списков Кормчей Вассиана, что свидетельствует о широкой востребованности труда Вассиана.
По пути Вассиана пошел и Нифонт Кор-милицын, создав также систематический свод с расположением правил в порядке 14 титулов 14.
Работа Вассиана и Нифонта неслучайна. Во-первых, им могли быть известны как Мазуринская, так и западнорусская редакции. Во-вторых, дальнейшее развитие юридической и канонической мысли требовало не просто тематических подборок канонического материала по отдельным темам, но возможности рассмотрения церковных канонов как определенной системы. Церковная жизнь ставила новые вопросы: о вдовых священниках, о церковном имуществе, об отношении к еретикам, о крещении иноверцев, о статусе монашествующих. Вассиан включил в свой труд и собственное полемическое сочинение «Собрание некоего старца», что тоже являлось новаторством.
В поисках ответов на вызовы современности могло быть два подхода правовой (юридико-канонический) и традиционный (когда ответы берутся из церковной практики). И в русской традиции XVI в. мы видим господство последнего подхода, согласно которому вся церковная жизнь идет «по правилам святых апостол и святых отец», т. е. в соответствии с Преданием. Именно такой взгляд представлен во многом в Стоглаве, где даются отсылки к «правилам святых апостол» не как к конкретному собранию, а скорее как к Преданию вообще. Между тем такой подход уже не соответствовал распространяющемуся научно-критическому воззрению, требовавшему знания текстов священного писания, а также и правил. Системное изложение правил открывало широкие преимущества, однако отсутствие филологической школы, отрыв от греческих источников начинали создавать и серьезные препятствия для развития канонического и юридического сознания. Неслучайно русские книжники обращаются к Максиму Греку с просьбой о переводах новых правил – налицо была потребность как в расширении канонического корпуса, так и в новых переводах. Как известно, эта линия не получила своего развития.
Можно отметить еще одну важную особенность русских канонических сборников.
Вопросы литургические и относящиеся к организации повседневной жизни занимают в них существенное место. Происходит сближение Устава и Кормчей. Монашеские правила, включенные уже в Устюжский сборник, в расширенном составе вошли и в рукописи Даниловского извода Сербской редакции. Богослужебный Устав во многом вытесняет Кормчую и занимает ее место. Порядок богослужения регламентирует жизнь человека и подчиняет его. Стремление к правильному совершению богослужения, понимаемому как обязательное условие личного спасения, приводит к тому, что именно Уставы становятся предметом решений Стоглавого собора и споров XVII в.
Не позднее начала XVII в. возникает новая редакция – Кирилло-Белозерская 15. В ней очевидно стремление редактора создать сокращенный свод, при этом переработке подвергается указатель 14 титулов – все главы в нем выстроены в один ряд, получают сплошную нумерацию. Редактор сокращает правила, но одновременно включает многие произведения не канонического, а учительного характера, связанные с именем митрополита Макария, переходят в эту редакцию и целые главы из Стоглава.
Развитие книгопечатания повлияло и на состав канонических памятников. Здесь необходимо отметить два синхронных явления: печатные издания текстов канонов у славян, имеющие практическое значение, – издание Сборника «Зинар» в Горадже, Ме-лешево, Тырговиште, Стрятине, издание Номоканона при Большом Требнике в Киеве, а затем и в Москве, и активное издание греческих канонов в Западной Европе с научными целями. Оба эти явления оказали влияние на русскую книжность: здесь распространяется и сборник «Зинар» и Син-ттагма Матфея Властаря, а уже в 1604 г. парижское издание канонов используется для исправления состава Кормчей Русской редакции священником Василием в Люблине. Василий сделал новый перевод ряда правил на славянский. Эта рукопись была растиражирована – имеются два списка по принципу «строка в строку», и в конце экземпляра, находящего в РГАДА, имеются выписанные тексты латинских канонов.
К изданию Печатной Кормчей приступили лишь в 1649 г., уже после выхода Собор- ного уложения. Издатели столкнулись с непростым вопросом о том, какую же редакцию Кормчей положить в основу. Если церковные каноны в постановлениях патриарха Филарета и в поучениях патриарха Иосифа приводились в Русской редакции, то в основу печатного издания была положена Сербская редакция. Правда, русские книжники знали ее как «суздальскую». Кроме того, редакторы использовали извод, связанный с именем митрополита Даниила – это уже второй случай, когда авторитет митрополита играл роль при выборе списка [Сапожникова, 2010]. Издатели расширили состав путем включения юридических памятников – Эклоги, Закона Судного Людям из Русской редакции. Кроме того, были включены главы: О браке из Требника Петра Могилы, глава Послание патриарха Тарасия было заменено на более пространную из «Книги о Священстве» Иоанна Златоуста. Особое внимание было уделено вводной статье Кормчей, ставшей каноническим обоснованием московского патриархата, а также заключительной части Кормчей, где появились новые для русской канонической традиции тексты, в том числе и «Константинов Дар». Всего, по нашим подсчетам, для издания было привлечено 11 памятников [Белякова, 2010б].
Таким образом, можно отметить, что на протяжении всей истории рукописной Кормчей до печатного издания можно проследить общие принципы при формировании сборника: 1) совмещение разных редакций; 2) замена или пополнение состава отдельных статей; 3) включение дополнительного материала из таких сборников, как Требник. Вместе с тем нельзя не отметить, что в Печатную Кормчую хотя и была включена вводная статья русского происхождения, повествующая об учреждении патриаршества в Москве, все другие русские канонические памятники не вошли в нее. Таким образом, тенденция включать местный канонический материал не получила в ней отражения, что связано с изменением культурной ориентации. Однако именно эта особенность делала возможным распространение и употребление Печатной Кормчей во всем славянском мире. Другая особенность Печатной Кормчей – отсутствие большого по объему трактата Епифания Кипрского о ересях. Этот трактат был представлен во всех редакциях Кормчей. Однако в Печатную Кормчую он не вошел, а в следующее издание 1787 г. не был включен и антилатинский трактат Никиты Стифата. Эти сокращения можно связать с новым отношением к ересям в русской культуре, в частности с появлением нового понятия – «инославные».
Итак, Кормчая, представляя собой в первую очередь собрание церковных канонов, существует в истории как сборник, состав которого отражает как особенности формирования сборников устойчивого состава, так и определенные исторические эпохи. Для русской культуры Кормчие, включившие в свой состав древнерусские юридические памятники, приобрели особое значение. Источниковедческое изучение состава Кормчих может дать новый материал по истории русской Церкви, но исследовать их можно лишь комплексно, что создает значительные трудности для ученых и требует коллективных усилий. Исследование должно сочетать изучение как общего состава сборников, так и отдельных статей. Выделение редакций собраний, а также классификация списков, составление указателей статей должны сделать возможными дальнейшие исследования.
KORMCAJA AS A MISCELLANY