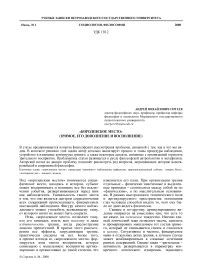«Королевское место» (зримое, его дополнение и восполнение)
Автор: Сергеев Андрей Михайлович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Социология. Философия
Статья в выпуске: 1 (91), 2008 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринимается попытка философского рассмотрения проблемы, связанной с тем, как и что мы видим. В контексте решения этой задачи автор детально анализирует процесс и этапы процедуры наблюдения, устройство и изменение континуума зримого, а также некоторые аспекты, связанные с организацией горизонта зрительного восприятия. Проблематика статьи развивается в русле философской антропологии и метафизики. Авторский взгляд на данную проблему позволяет рассмотреть ряд вопросов, затрагивающих историю новоевропейской и современной философии.
"королевское место", процедура "внешнего" наблюдения, рефлексия, трансцендентальный субъект, "смерть бога", "положение дел", концепт, модель
Короткий адрес: https://sciup.org/14749393
IDR: 14749393 | УДК: 130.2
Текст научной статьи «Королевское место» (зримое, его дополнение и восполнение)
Под «королевским местом» понимается специфическое место, находясь в котором, субъект может воспринимать и понимать все без исключения события, развертывающиеся перед ним как наблюдателем. Уникальность такого места в том, что оно является центром сосредоточения всех содержаний происходящего, фиксируемых инстанцией наблюдения. Фигуру самого наблюдающего можно уподобить всевидящему глазу, от которого ничто не может быть сокрыто.
Итак, «королевское место» позволяет тому, кто его занимает, иметь всю полноту и даже избыточность зрения, когда рассмотрение лишено препятствий. В призме этого рассмотрения все эффекты, затрудняющие зрение, практически сведены на нет. Более того, в призме взгляда из «королевского места» формируется зона такого восприятия, которое совмещено с мышлением: восприятие артикулировано и организовано до такой степени, что изменяется его план. При организации зрения отдельные – физически замеченные и выделенные признаки – соотносятся между собой не по «физическим», а по мыслительным основаниям. В рамках выстроенного тематического поля и артикулируемого пространства понимания глаз человека способен видеть то, чего ему было не дано видеть физически.
Скажем и по-другому, артикулированное видение опирается на смысловое или, что есть то же самое, на логическое тождество. Именно единый логический план позволяет засечь, заметить и промаркировать мышлением тот состав зримого, который не схватывается глазом и относится к целому . Ситуативное и частное, фиксируемое нами в отдельных актах зрения, в лучшем случае может комбинироваться в сложные сочетания разных содержаний. Однако такая – зрительная – активность развертывается в параметрах конкретного логического измерения, задающего
нашей мыслительной активности направление в границах определенного тематического поля.
Процесс придания рассматриваемому направленности напрямую связан с мышлением. Важно не только придавать направление и перспективу зрения, но и удерживаться в параметрах определенного направления. Важно обретать новые варианты и способы поддержания векторной устойчивости и направленности взгляда. Можно сказать и так, что понимающее зрение есть там и тогда, где и когда поддерживается перспективное рассмотрение. Чем больше наш взгляд может удерживаться в границах смысловой перспективы, тем больше мы видим. Мысль индуцируется энергией направленного рассмотрения, закрепляемого в конструировании текстов.
Уже в платонизме крепнет понимание того, что мы - люди - видим и обозреваем мир не глазами , а идеями. Теперь - через философию ХХ века, особенно в лице М. Хайдеггера и М. Фуко, становится понятно, что происходящее действительно видит тот, кто понимает организацию среды этой действительности, знает законы ее существования и способен смещаться из содержательных интерпретаций случайного , ситуативного и частного в измерение законов формы , их порождающей. Освоиться в среде интенсивного зрения может тот, кто находит в себе силы располагаться в тех артикуляционных устройствах, не только дополняющих, но и восполняющих физическое зрение. Понятно и то, что интенсификация зрения и само существование «королевских мест» возможны в параметрах складывающихся многомерных языковых пространств. Именно это и фиксируется понятиями «дискурса» и «эпистемы». Так что мы действительно видим не глазами, а эйдо-сами. Мы видим мир словами.
Сущность классической эпистемы, т. е. положения дел, все собою предопределяющего, включая основание восприятия, процедуру понимания и транслирование знания, сформировалась, как известно, в новоевропейской философской традиции. После Л. Витгенштейна говорить о «положении дел» как о чем-то таком, что имеет синтетический и производный характер, уже не приходится [2]. Положение дел складывается беспричинно, точнее - таким образом, который невозможно охарактеризовать в причинноследственных построениях: в этом смысле положение дел - первично и предопределяет собой все. Из него можно только исходить. И потому положение дел задает параметр всем содержательным интерпретациям. Понятие «положение дел» можно уподобить понятию «целого».
Особо стоит обратить внимание на то, что задать определение целому не удается. Скорее, упорство в поисках конкретного механизма уводит человека от целого (т. е. «положения дел») к частному (т. е. «факту»). Сложное неопределенно и поэтому нуждается в определении, даже требует его. Со сложным связано частное.
Целое, напротив, связано с простым , и потому оно схватывается сразу. К простому не прийти, продвигаясь по пути минимализации сложного, хотя сложное - это такой же феномен, как и простое. Простое обладает двумя уникальными свойствами: оно доступно и изначально. Вот почему целое - в своей связанности с простым - открыто каждому из нас. К тому же целым захвачено все, что бы то ни было [3]. Вот эта-то неопределенность (нефиксируемость) полноты, цело стности и простоты придается взгляду мышлением.
Рассмотрим процесс «внешнего» наблюдения. Мы находимся в ситуации наблюдения, когда занимаем место зрителя (зрителя в музее, картинной галерее, театре, кинотеатре и т. д.), в результате чего мы получаем возможность обозревания происходящего. То, что происходит перед нами, разумеется, имеет свою «внутреннюю» специфику, и в содержательном смысле оно предельно субъективно. Игра актеров или мазки на картине воплощают в себе «частное», «страстное», «возмущенное», тогда как наблюдатель способен на непричастный, беспристрастный и невозмутимый - никакими содержаниями - взгляд. Эффект внешнего наблюдения особенно ярко проявляется в отстраненности от субъективных содержаний и выражает себя в объективности зрения. Разные люди уравнены в своем положении - положении зрителя - и являются посторонними по отношению к зримому.
Место наблюдателя не содержится в составе наблюдаемого, однако оно предполагается. Возможность наблюдения (зрения и смотрения) инсталлирована в организацию составных частей наблюдаемого: оно инсталлируется местом автора , каковым является художник - создатель полотна художественного произведения, режиссер или кинорежиссер, которые организуют целое из разнородных частных эпизодов, предстающих частями единого смыслового континуума.
Видимо, в предельной форме «внешнее» наблюдение воплощает фигура шпиона , причем шпиона в двойном смысле, когда, шпионя, резидент занимает рефлексивную позицию и в отношении к своим «отношениям» с теми, на кого он работает. Он оставляет «про запас» и для себя некую внутреннюю территорию, которой он не делится ни с кем. Это - территория понимания , которое и составляет нерв жизни резидента. Насколько понимание резидента является неотчуждаемой собственностью и составляет основу его личностного строя, настолько он и существует, причем существует в физическом смысле. Именно из среды понимания совершаются аналитические рейды сознания, которыми можно «делиться» с другими людьми и придавать им форму частного существования. Если и говорить о рефлексии как способе организации жизни, то можно считать, что рефлексивное отношение к чему бы то ни было, включая саму рефлексию, определяет поведение разведчиков.
На примере резидентов хорошо видно значение рефлексивных актов для человека. Понятно, что такие действия пронизывают жизнь каждого из нас, если мы стремимся что-либо понять, а значит, и соотнести с собою. В процессе совершения рефлексии формируется образ Я , который является продуктом сознательной деятельности человека и местом «внешнего» наблюдения за собою. Понятно, что место рефлексивного образа Я является утопичным в физическом отношении, ибо оно располагается в мышлении человека. Однако возможна идеологизация рефлексивного образа Я , на основе которой появляются «двойники» и псевдообразы нашего Я , располагающиеся уже в параметрах культуры и занимающие в ней вполне конкретные – знаковые – места. Такой квазиструктурой является, например, имидж.
Из сказанного понятно, что можно отождествить инстанцию зрителя с инстанцией наблюдателя , когда перед взором последнего осуществляется вся полнота действия, определенность которого придается именно наблюдателю: придается в том смысле, что он посвящен в выявление принципов существования наблюдаемого.
По иному говоря, наблюдатель обладает возможностью постижения законов, по которым строится и воспроизводится все – перед ним – происходящее. Предполагается, что он в состоянии воспринимать и понимать разворачивающееся перед ним действие ввиду того, что его мышление совпадает со средой развертывания сущностных характеристик происходящего.
В профессиональном цехе философов вышесказанное фиксируется понятием «трансцендентального субъекта», содержательные интерпретации которого разнообразны по своим приложениям, но едины в фиксации положения дел, связанных с априорностью . Так, вводя понятие трансцендентального субъекта, Кант понимает его как логическую форму априорных синтетических суждений. Впоследствии – в посткантианской традиции – это понятие также отождествляется с формой синтетических суждений , которые имеют априорный характер. В методологическом плане понятие «трасцен-дентального субъекта» и трансцендентализма в целом применяется в контексте маркировки специфической возможности сознания человека – возможности осуществления им логической обработки любых содержаний своего опыта. Причем эта возможность практически неисчерпаема, как неисчерпаемы этапы процедуры формализации любого содержания.
Дело в том, что неопределенность целого, о которой говорилось выше, при встрече с ней человека, который смертен и конечен, теряет свой статус и подлежит усложнению .
Особо заметим, что проблема обостренного понимания смертности человека наряду с введением и поддержанием позиции трансцендентального субъекта в пределах человеческого
«устройства» мира напрямую связана с ситуацией «смерти Бога», знаменующей распад онтологических оснований теоцентрического мышления и эпистемы, предшествующей новоевропейской установке.
«Смерть Бога», как известно со времен Ф. Ницше [4], знаменует не только утрату центра мира и «потустороннего» способа организации целого, но и обостряет проблему занятия «места Бога» определенными и условными центрами. Вместе с тем, платой за распад «потусторонней» формы организации целого и формирование «посюстороннего» способа существования мира – на основе действий новоевропейского субъекта – является утрата определенности между «нормой» и «ненормальностью» и, соответственно, между «здравым смыслом» и «безумием». «Внешняя» точка зрения, применяемая к самому себе, создает ситуацию перманентной недостижимости внутренней глубины себя и непостижимости своего подлинного Я , которое непременно предполагается. Причем, подлинность и мнимость норовят все время поменяться местами, дезориентируя сознание человека и изменяя направление интенционального строя его сознания. Перманентная недостижимость своего Я воспроизводит тотальность внутреннего распада, которым и определяется степень безумия каждого.
Однако, уходя от рассмотрения проблемы соотношения нормы и ненормального, отсылаем интересующегося к работам Фуко [5], а сами сосредоточимся на проблеме наблюдения.
Попытаемся сформулировать некий парадокс. Наше видение развивается постоянно и безостановочно именно потому, что оно – неполно . Его неполнота стимулирует потребность все нового и нового рассмотрения. О полноте зримого можно говорить применительно к логическому основанию, которое определяет реализацию возможностей увидеть нечто. Такая полнота является не «содержательной» полнотой, но полнотой формы. И эта полнота формы предшествует любой определенности содержания увиденного, имеющей всегда частный характер.
Привносимая с формой полнота наполняет, восполняет и дополняет содержание, обеспечивая возможность единства всех его составляющих. На основе тождественности содержаний, что достигается путем опоры на логический план формы, нам удается совершать прыжки от одного содержания к другому. В основании действий отождествления лежит намерение связать и соотнести разное посредством выделения единого внутреннего измерения, присущего отдельным содержаниям. Витгенштейн называет такое внутреннее измерение «логическим пространством».
Прямого взаимодействия с полнотой, т. е. с формой, у нас нет: оно всегда опосредовано и определенно. В своем зрении мы ориентированы формой. И уже в проеме такой ориентации – т. е. «потом», «вторично» и «производно» – определяется содержание, значимость которого для нас напрямую зависит от того, удерживаем мы его единство с формой или нет. Если при акцентировании внимания на содержании зрения мы способны воспринимать его «произведен-ность» посредством формы, то такое – «нагруженное» формой – содержание является для нас значимым. Если мы изымаем содержание из условий, благодаря которым оно продуцировалось, то мы легко его теряем, ибо оно нам не дорого. Дело в том, что содержание увиденного, оторванное от формы, теряет свою логическую составляющую и заданное направление своего понимания. Содержание увиденного, взятое в отдельности от условий, которыми оно произведено, не имеет смысла. Оно буквально «бессмысленно», ибо не связано с мыслью, а потому в дальнейшем склонно к исчезновению.
Заметим, что сам зритель в качестве какой-либо субстанции в действии не дан. Однако его присутствие – в происходящем – подразумевается. Подразумевается, что оно «есть» внутри действия, которое наблюдает зритель. Вот это «есть» и объясняется путем обращения к понятию «трансцендентального субъекта», обеспечивающего возможность того, что разные люди, имеющие несопоставимые биографии и судьбы, возрасты и половую принадлежность, социальный статус и карьерное положение, могут занимать одно и то же место.
Такое место «наблюдения» уравнивает всех людей и любого человека в их положении, т. е. положении наблюдателя . Занимая его и наблюдая происходящее, человек всецело сосредоточивается на действии наблюдения, тогда как все остальные его характеристики, связанные с жизнью, становятся незначимыми. Будучи наблюдателем, каждый из нас в этот момент – момент наблюдения, который – при развитии способностей – может занимать часы, дни, месяцы и годы нашего существования, не живет своей собственной жизнью. Налицо расхождение измерения мышления и измерения жизни с последующим замыканием активности субъекта, как и его повествования о ней, либо в одно, либо в другое измерение.
Кстати отметим, что сама возможность дискурсивных практик оформляется именно в ситуации, когда повествование наблюдающего (шире говоря, его язык) способно не только аналитически расчленять наблюдаемое и сочленять новые «комбинации» на основе сущностных характеристик, лежащих как бы внутри наблюдаемого, но и поддерживать саму инстанцию зрения. Язык повествования наблюдателя о том, что он наблюдает, базируется на рациональной «развертке» всего того, что способно быть помещенным внутрь обзора наблюдения. В результате, язык наблюдателя преобразует отдельные восприятия в единую смысловую картину, на основании которой только и воспринимается любая характеристика объекта наблюдения. Фуко прямо заявляет о том, что дискурс это и есть «язык в его способности выражать представле- ния, … который именует, расчленяет, сочетает, связывает и развязывает вещи, позволяя увидеть их в прозрачности слов» [6].
Возвращаясь к теме расхождения зримого -мыслимого , с одной стороны, и существования , с другой стороны, отметим, что возможность замыкания измерения мышления в отдельную область, если и не противостоящую области жизни, то, по крайней мере, с ней не совпадающую, начавшая формироваться в Европе благодаря усилиям Декарта, чрезвычайно показательна. Дуализм res extensa и res cogitans проводится Картезием последовательно и принципиально, выступая в качестве лейтмотива практически всех значимых его рассуждений. Практическая ситуация, связанная с разведением измерения жизни и измерения мышления, когда можно жить не мысля и, напротив, мыслить не живя, оказывается довольно распространенной. К тому же можно опереться на теоретическое осмысление этой позиции, характерное для работ М. К. Мамардашвили и А. М. Пятигорского [7], когда совмещение мышления и наблюдения становится основанием построения метатеории сознания. В контексте развития метатеоретиче-ского подхода формируется такой язык «внешнего» наблюдения и понимания, который применим в затруднительных и проблематичных ситуациях, как в отношении жизни, так и самого сознания.
Таким образом, в теоретическом плане мышление не нуждается ни в какой жизни: ему достаточно себя. Собственно и жизнь не нуждается в мышлении, образуя собою самодостаточный континуум. Пожалуй, не будет лишним добавить, что логика обособления сознания, отождествляемого на момент рассуждения с мышлением, от жизни в любой ее содержательности является одним из наиболее существенных признаков медитативных практик, получивших распространение в русле индийской философии и в буддизме [8].
Вместе с тем значима проблема, связанная с возможностью, по крайней мере – с возможностью теоретической, постоянного сдвига места наблюдателя внутри процедуры наблюдения [9]. Наблюдение предполагает, что любое наблюдаемое содержание, «вмещающее» и «помещающее» в себя субъекта наблюдения, может преодолеваться посредством выполнения перманентного смещения наблюдаемого из этого, как, впрочем, и любого другого, содержания.
У проблемы наблюдения есть и другой аспект, возможно, более понятный ввиду технической его проработанности в среде европейской профессиональной философии. Зададимся вопросом, почему так случается, что мы не понимаем происходящее, а также задумаемся о том, как вообще осуществляется понимание.
Проблема умения извлекать из произошедшего опыт напрямую связана с воспитанием у человека навыка изъятия себя, точнее – своей сущности, из конкретных ситуативных воплощений. Трансцендентальное смещение позволя- ет нам видеть себя за пределами жизненных обстоятельств и преодолевать случайное, внутри которого мы застревает «по жизни». Фактически речь идет о безразличии в отношении к частному, противостоянии помещению нашего сознания в отдельное жизненное содержание и совмещении с позицией трансцендентального субъекта. Мы присваиваем себе способность, которая является «дополнительной» по отношению к способности взаимодействия с частным. «Спрямляющее» действие формы позволяет преодолеть ситуативные сложности жизни. Такое «преодоление» собственно и является пониманием. Совершаясь, акт понимания воспринимается нами с чувством облегчения. Не понимая, мы неизбежно застреваем внутри содержаний, цепляемся за них и не хотим с ними никак расставаться. Теперь же, когда понимание случилось, мы расцепляем связывающие нас путы ситуаций и переживаем свое освобождение, что всегда оценивается позитивно.
Вместе с тем встает и вопрос о том, как происходит на практике наша встреча с формами . Каким образом мы сталкиваемся со средой принципиально формального, но не содержательного отношения к действительности? В первую очередь это осуществляется через введение в область происходящего текстов, образованных мышлением, но не жизнью. Среда жизни пронизывается континуумом мышления: текст жизни подвергается аналитическому расчленению и последующему синтезу, когда формализованные содержания соединяются друг с другом на основе «текстовых» правил. Понятно, что тексты мышления должны не изображать действительность, т. е. не быть построенными на основе образов, исходящих из частных содержаний жизни. Напротив, тексты мышления становятся поперечным сечением жизни. Они создают перспективу , внутри которой располагаются различные содержания, в результате чего определяется «дополнительный» – смысловой – горизонт восприятия.
Перспективность и артикуляция зрению задается посредством открытия концептов и создания моделей рассмотрения.
Концептуально «загруженный» и концептуально «утрудненный» взгляд позволяет увидеть совершено иной план действительности. Оставляя за рамками данной статьи вопрос о технологии работы с концептами, включающей их открытие, рассмотрение их связи с «концептуальными персонажами» и технику поддержания таких персонажей, сосредоточимся исключительно на тех характеристиках концепта, которые могут способствовать прояснению нашей проблемы. Читателя же отправляем к работе Ж. Делёза и Ф. Гваттари, которые, кстати сказать, и задачу философии в целом связывают с умением формировать, изготавливать и подбирать определенные концепты [10].
Одним из существенных признаков концепта является его полиструктурность, что позволяет совмещать множество образов видимого на основе одного мыслительного концепта. Концепт есть некоторая целостность видимого в разном, т. е. целостность логического типа, которая позволяет видеть объемлемо и объемно. Причем измерение концептуального зрения имеет тенденцию к разрастанию и расширению.
В понятии «концепта» отражается совмещение способности физического зрения с измерением мышления, когда конкретный концепт позволяет ясно и четко увидеть «старые» проблемы в «новом» свете. Так, открытие концепта секса позволило объяснить многое из того, что до этого концепта никак не связывалось между собой.
Значит, на основе концепта формируется определенный горизонт восприятия, благодаря чему – путем опоры на концепт – поддерживается рассмотрение действительности в некоем тематическом плане. Концептуальные измерения позволяют нам обратить внимание именно на те аспекты рассматриваемого, которые имеют для нас гораздо большее значение по сравнению с другими, а значит совместить, соотнести и связать зримое именно с нашим жизненным полем. Фактически взаимодействие с концептами позволяет человеку обрести свой жизненный путь. При изменении концепта изменяются границы понимания самого «устройства» жизненной среды человека, а также изменяется его положение как в отношении к себе самому, так и к миру. Все это напрямую связано с изменением горизонта видимого.
Затрагивая вопрос об артикуляции зрения посредством изготовления различных моделей действительности, заметим следующее. Модель воспроизводит целостность того, что рассматривается нами, придавая разным содержаниям зримого единство внутренних , т. е. логических , отношений. Привносимая с моделью форма преобразует различное в единство состава зримого, формируя тем самым определенное поле рассмотрения. На основании формального тождества между моделью и действительностью, по отношению к которой применяется данная модель, т. е. на основании тождества формы, различные измерения реальности утрачивают свою «содержательную» уникальность, порожденную разной природой, и могут теперь быть совмещены друг с другом. Разница субстанций – благодаря модели – не оказывает никакого воздействия, ибо на всем протяжении процесса рассмотрения выполняется условие тождества формы, которое закрепляет способ связи разнообразных элементов и позволяет разным измерениям реальности стать прозрачными по отношению друг к другу. Так формируется поле направленного – моделью – взгляда, сориентированного на конкретную целостность устройства реальности, придерживаясь которой, взгляд человека в содержательном отношении может длиться практически бесконечно.
Увиденное глазом и увиденное умом будут отличаться тем, что первое – всегда статично установленное и воспринимается в своей законченности как нечто ясное, тогда как второе – динамично и тяготеет к постоянному усложнению, ибо вбирает человека внутрь себя. За счет совмещения зрения с мышлением определяются иные акценты восприятия и новые аспекты зримого. Понятно и то, что именно такие акценты, возникающие в проеме жизни человека, формируют его личность: личность несет в себе такие «различения» человека с собою, явно и неявно усложняющие его зрение.
Увиденное умом событие влечет человека: он испытывает тягу и даже ностальгию по тому, чтобы еще раз испытать произошедшее событие. В данном случае – еще раз увидеть понятое. Именно наше отношение к чему-либо позволяет этому «понятому» быть. Вне нашего отношения бытийная структура жизни не индуцируется.
Между тем осмысление события имеет двоякую природу. С одной стороны, в осмыслении события выявляется его глубина, соотносясь с которой человек способствует продлению этого события. С другой стороны, анализ события и выявление его структурной организации по принципу нахождения «схемы», «причин» и просчитываемых «последствий» изменяет онтологический статус события, способствуя превращению его в элемент определенной цепи явлений. Вот почему наше взаимодействие с событием требует сохранять его внутреннюю целостность, а значит – предпосылать такому отношению логический, т. е. смысловой, план видения. В противном случае происходит некая подмена события явлением. Происходит внутреннее замещение логического состава события составом содержания этого события, извращающее его понимание.
И последнее. Возможно, мы не готовы полностью сосредоточиться на новом , которое мы вдруг увидели, и принять его именно потому, что скованы знаемым . Поэтому, когда мы сталкиваемся с совершенно новым планом зримого, коренным образом изменяющего наше зрение, оно захватывает нас вдруг, целиком и сразу. Именно стремительность произошедшего откровения позволяет порвать со сложившейся ранее перспективой. В этом случае человеку не удается сдерживаться и он, будучи сориентированным на новое, стремится показать эту свою «захваченность» зримым другому. Стремится указать на произошедшую перемену: указать жестом или словом, всегда поперечным по отношению к языку описания и в него, конечно, не вмещаемым.
Если мы хотим акцентировать внимание на изменении аспекта зрения, то непременно совершаем добавочное и дополнительное действие, выходящее за пределы видимого ранее. И действие это, является ли оно жестом, призывом или телесным движением, есть действие одновременно и языковое, и телесное, ибо изменение зрения столь радикально, что захватывает все наше существо разом и полностью. Изменение перспективы зрения, совмещенного с иным понимание зримого и пронизываемого этим пониманием, связано с новым основанием, экстерриториальным по отношению к тому, что ты видел. Теперь ты понял, и видишь иное .
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ПРИМЕЧАНИЯ
-
1. Здесь стоит принципиально отмежеваться или, по крайней мере, отвлечься от разведения смысловых понятий «наблюдение» и «созерцание», как это делает А. М. Пятигорский, формулируя основания «обсервационной философии». См.: Пятигорский А. М. Мышление и наблюдение. Четыре лекции по обсервационной философии: пер. с англ. Рига, 2002. 172 с.
-
2. Бибихин В . В . Витгенштейн: смена аспекта. М., 2005. 570 с.
-
3. Для уяснения темы целого и частного, простого и сложного особенно важно обратиться к работе В. В. Бибихина «Витгенштейн: смена аспекта» (М., 2005)
-
4. Ницше Ф . Веселая наука: пер. с нем. // Ницше Ф. Сочинения в 2 т. Т. 1. М., 1990. 829 с. Помимо текстов самого Ницше см. интерпретацию ситуации «смерти Бога» М. Хайдеггером. – Хайдеггер М. Европейский нигилизм: пер. с нем. // Время и бытие: Статьи и выступления. М., 1993. С. 63–176; Хайдеггер М. Слова Ницше «Бог Мертв»: пер. с нем. // Работы разных лет. М., 1993. 464 с.
-
5. Фуко М . История безумия в классическую эпоху: пер. с фр. СПб., 1997. 576 с.; Фуко М. Ненормальные: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1974–1975 учебном году: пер. с фр. СПб., 2005. Фуко М. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью: пер. с фр. М., 2002. Ч. 1. 384 с.; Фуко М. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью: пер. с фр. М., 2005. Ч. 2. 320 с.; Фуко М. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью: пер. с фр. М., 2006. Ч. 3. 320 с. Наряду с этим стоит обратить внимание и на работы Л. Кэрролла, вероятно, впервые со всей очевидностью привлекшего внимание к изменению отношения между привычным и новым. Он показал, как новые и дополнительные артикуляции меняют очертания сложившегося было видения. Становится понятно, что видимое определяется соблюдением или нарушением условий в деле поддержания пределов (границ) того, что мы видим. – См.: Кэрролл Л. Алиса в Стране Чудес. Алиса в Зазеркалье: пер. с англ. М., 1991. 359 с.
-
6. Фуко М . Слова и вещи. Археология гуманитарных наук: пер. с фр. СПБ, 1994. С. 332.
-
7. Мамардашвили М. К. Классический и неклассический идеалы рациональности. М., 1994. 90 с.; Мамардашвили М. К. Картезианские размышления. М., 1993. С. 32-33, 272-281, 322-323, 327. Мамардашвили М. К. Стрела познания (Набросок естественноисторической гносеологии). М., 1997. С 225, 226-227; Мамардашвили М. К. Лекции о Прусте (Психологическая топология пути). М., 1995. С. 102-103, 398, 400-403, 409-410, 412, 523; Мамардашвили М. К., Пятигорский А. М. Символ и сознание. Метафизические рассуждения о сознании, символике и языке. М., 1997. 224 с.
-
8. Мамардашвили М . К ., Пятигорский А . М . Символ и сознание. Метафизические рассуждения о сознании, символике и языке. М., 1997. 224 с.; Пятигорский А. М. Избранные труды. М., 1996. 590 с.; Пятигорский А. М. Мышление и наблюдение. Четыре лекции по обсервационной философии: пер. с англ. Рига, 2002. 172 с.
-
9. Пятигорский А. М. Мифологические размышления. Лекции по феноменологии мифа: пер. с англ. М., 1996. 280 с.
-
10. Делёз Ж ., Гваттари Ф . Что такое философия? Пер. с фр. СПб., 1998. 288 с.
Список литературы «Королевское место» (зримое, его дополнение и восполнение)
- Пятигорский А. М. Мышление и наблюдение. Четыре лекции по обсервационной философии: пер. с англ. Рига, 2002. 172 с.
- Бибихин В. В. Витгенштейн: смена аспекта. М., 2005. 570 с.
- Для уяснения темы целого и частного, простого и сложного особенно важно обратиться к работе В. В. Бибихина «Витгенштейн: смена аспекта» (М., 2005)
- Ницше Ф. Веселая наука: пер. с нем.//Ницше Ф. Сочинения в 2 т. Т. 1. М., 1990. 829 с.
- Хайдеггер М. Европейский нигилизм: пер. с нем.//Время и бытие: Статьи и выступления. М., 1993. С. 63-176
- Хайдеггер М. Слова Ницше «Бог Мертв»: пер. с нем.//Работы разных лет. М., 1993. 464 с.
- Фуко М. История безумия в классическую эпоху: пер. с фр. СПб., 1997. 576 с.
- Фуко М. Ненормальные: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1974-1975 учебном году: пер. с фр. СПб., 2005.
- Фуко М. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью: пер. с фр. М., 2002. Ч. 1. 384 с.
- Фуко М. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью: пер. с фр. М., 2005. Ч. 2. 320 с.
- Фуко М. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью: пер. с фр. М., 2006. Ч. 3. 320 с.
- Кэрролл Л. Алиса в Стране Чудес. Алиса в Зазеркалье: пер. с англ. М., 1991. 359 с.
- Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук: пер. с фр. СПБ, 1994. С. 332.
- Мамардашвили М. К. Классический и неклассический идеалы рациональности. М., 1994. 90 с.
- Мамардашвили М. К. Картезианские размышления. М., 1993. С. 32-33, 272-281, 322-323, 327.
- Мамардашвили М. К. Стрела познания (Набросок естественноисторической гносеологии). М., 1997. С 225, 226-227
- Мамардашвили М. К. Лекции о Прусте (Психологическая топология пути). М., 1995. С. 102-103, 398, 400-403, 409-410, 412, 523
- Мамардашвили М. К., Пятигорский А. М. Символ и сознание. Метафизические рассуждения о сознании, символике и языке. М., 1997. 224 с.
- Мамардашвили М. К., Пятигорский А. М. Символ и сознание. Метафизические рассуждения о сознании, символике и языке. М., 1997. 224 с.
- Пятигорский А. М. Избранные труды. М., 1996. 590 с.
- Пятигорский А. М. Мышление и наблюдение. Четыре лекции по обсервационной философии: пер. с англ. Рига, 2002. 172 с.
- Пятигорский А. М. Мифологические размышления. Лекции по феноменологии мифа: пер. с англ. М., 1996. 280 с.
- Делёз Ж., Гваттари Ф.Что такое философия? Пер. с фр. СПб., 1998. 288 с.