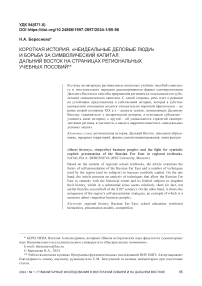Короткая история, «неидеальные деловые люди» и борьба за символический капитал: Дальний Восток на страницах региональных учебных пособий
Автор: Береснева Н.А.
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: История российских регионов
Статья в выпуске: 1 (67), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье на материале региональных школьных учебных пособий советского и постсоветского периодов рассматриваются формы самопрезентации Дальнего Востока и способы приращения регионом (и отдельными его субъектами) символического капитала. С одной стороны, речь идет о реакции на устойчивое представление о собственной истории, которая в субстанциональном отношении видится относительно короткой (фактически - не ранее второй половины XIX в.), - анализе техник, позволяющих Дальнему Востоку «сравняться» с историческим центром, а отдельным субъектам - удлинить свою историю; с другой - об уникальности стратегий самопрезентации региона, в частности, о вводе в нарратив сюжетов о «неидеальных деловых людях».
Региональная история, дальний восток, школьное образование, иерархия территорий, формы самопозиционирования, конкуренция
Короткий адрес: https://sciup.org/170204342
IDR: 170204342 | УДК: 94(571.6) | DOI: 10.24866/1997-2857/2024-1/85-96
Текст научной статьи Короткая история, «неидеальные деловые люди» и борьба за символический капитал: Дальний Восток на страницах региональных учебных пособий
Рассмотрение учебника как источника является классической позицией исследователей истории памяти: по крайней мере, с момента издания Марком Ферро работ, посвященных презентации исторического материала для детской аудитории1. Особое место учебники (не только истории, но также географии и др.) занимают в рамках анализа политики памяти (см., напр.: [34; 35, p. 41–55]). Интерес к изучению учебников по истории России в последние десятилетия только растет (см., напр.: [29; 30; 33]). Показательно здесь и появление коллективной монографии «Учебник как модель мира и общества», один из разделов которой, в частности, посвящен анализу постсоветских учебников по истории России как отражения политики исторической памяти [31, с. 168–176]. Процесс активного пересмотра целого спектра исторических позиций в 1990-е гг., сменившийся дискуссиями о том, «каким быть школьному учебнику по отечественной истории XX века», и пристальным вниманием к историческому образованию со стороны российской власти (от позиции в отношении проекта единого учебника по истории в 2013–2014 гг. (см., например: [18; 22])2 до анонсированного в апреле 2022 г. решения о преподавании истории в начальной школе [1] и появления в университетской программе курса «Основы российской государственности» [25]), стимулировал академическую работу в отношении анализа учебной литературы. Однако в подавляющем большинстве случаев речь идет об учебниках по истории России: учебные пособия, повествующие об истории отдельных регионов/административных единиц, по-прежнему остаются на периферии исследовательского внимания. Если подобные материалы и попадают в поле зрения ученых, то речь идет об анализе конкретных и значимых эпизодов, т.е. о рассмотрении интерпретации событий Первой мировой войны, революции 1917 г. или, что чаще, Великой Отечественной войны (см., напр.: [2; 16]). Изучение учебного пособия как единого целого со своей структурой и локальной прагматикой, как правило, не фигурирует в списке академических задач и не осмысляется как существенный фактор.
Вместе с тем на протяжении долгого времени учебные пособия по истории отдельного региона (другое частое наименование – краеведческие учебные пособия) занимали важное место в учебном процессе. После выхода в 1961 г. совместного приказа Министерства просвещения РСФСР и Министерства культуры РСФСР «Об усилении краеведческой работы в школах и издании краеведческих пособий для школ» краеведение включают в школьные программы [14], дополняя основной курс по отечественной истории, а сами учебные пособия становятся частью общего движения по «усилению краеведческой работы в школах», сохраняя свое место вплоть до распада СССР. В 1990-е гг. – период экспериментов в области построения образовательной программы – региональные учебные пособия, с одной стороны, переписываются и уточняются (в рамках общего движения по пересмотру исторических позиций)3, с другой – постепенно теряют свое «обязательное место» в курсе школьного образования. В 2000-е гг. ситуация также не стабилизируется: утвержденные в 2007 г. поправки к закону «Об образовании» давали возможность субъектам Российской Федерации выбирать, каким образом будет проходить освоение регионального компонента – как отдельный курс, как раздел в рамках курса отечественной истории и т.д. Эти решения регионами принимаются до сих пор: так, в 2021 г. в Приморском крае по инициативе губернатора О.Н. Кожемяко в программу школьного образования начали внедрять курс «Мой Приморский край»; специально написанное для реализации этой программы новое учебное пособие будет рассмотрено далее.
Существенным является и другой аспект: анализ локальных учебных пособий по истории с применением ставшего уже классическим метода истории памяти4 позволяет обнаружить интерпретации исторического прошлого, востребованные в конкретном регионе. В этом отношении важно отметить, что, с одной стороны, акторность регионов в выстраивании локального взгляда на вопросы местной истории и культуры в последние десятилетия неуклонно растет. Сейчас при взгляде на территории, создающие свой – локальный – исторический нарратив, заметным становится стремление аккумулировать все имеющиеся ресурсы – упомянуть все самое яркое, сильное, выделяющее регион. С другой стороны, сопоставление выстраиваемых таким образом нарративов в разных регионах позволяет увидеть существующую вариативность. В литературе заговорили даже о «тематическом репертуаре» политики памяти в регионах современной России, который формируется при взаимодействии локальных и федеральных акторов (см., напр.: [20]). Это, в свою очередь, ставит вопрос о расстановке приоритетов при интерпретации исторического прошлого на локальном уровне, особенно если речь идет о презентации истории для школьников, т.е. имеет своей целью формирование соответствующей локальной идентичности.
В предлагаемой статье предпринята попытка анализа серии учебных пособий по истории Дальнего Востока как своего рода проекта по истории памяти региона. Этот проект, как будет показано ниже, обладал рядом характеристик, оставшихся неизменными при переходе от советского к постсоветскому периоду. Выбор региона определяется выраженной спецификой последнего. Российский Дальний Восток – это территория, удаленная от центра страны, находящаяся на побережье Тихого океана и частично граничащая с Китаем. Существенно, что, с одной стороны, согласно переписям населения за 2010 и 2020–2021 гг., Дальний Восток – самая малонаселенная часть страны, а с другой, в рамках существующего деления на федеральные округа, он занимает более 40% территории Российской Федерации. В последние годы Дальний Восток вызывает серьезный интерес федеральных властей, что видно по распределению как экономических ресурсов, так и «символического капитала» (например, проведение во Владивостоке ежегодного Восточного экономического форума, актуализация в рамках политической риторики темы «поворота на Восток» и маркирование Дальнего Востока как территории, которая станет приоритетом России на XXI в. [21]). В выборку вошли учебники по истории как непосредственно «макрорегиона» (Дальнего Востока), так и входящих в Дальне- восточный федеральный округ субъектов, опубликованные с 1960 г. до настоящего момента. В первую очередь в фокусе внимания исследования находились учебные пособия, опубликованные во Владивостоке и в Хабаровске.
«Короткая» история далекого региона
В современном общественном сознании жителей региона и на уровне публичной истории Дальний Восток – регион молодой, его наполненная событийная история начинается лишь со второй половины XIX в., когда Российская империя начинает освоение этих территорий и активизирует свое геополитическое присутствие на Тихом океане. Показательно, что именно в это время появляется и топоним «Дальний Восток» – прежде эти территории ассоциировались с Сибирью5.
Очевидно, авторы учебных пособий по истории Дальнего Востока и отдельных субъектов этой части страны воспринимают такое положение вещей как своего рода «вызов»: одной из самых значимых позиций локальной учебной литературы оказывается установка на «удлинение истории» региона. При этом формирование подобного нарратива оказывается задачей, которая остается неизменной при радикальной смене историко-культурного контекста: ее в равной мере осознают и артикулируют создатели как советских, так и постсоветских учебных пособий.
Региональные учебные пособия советского периода, построенные с опорой на марксистскую теорию о сменяющих друг друга в процессе истории общественных формациях, однако, не могли начинать повествование с периода позднего феодализма или раннего капитализма. По этой причине отсчет истории Дальнего Востока в этих текстах шел не с 1582 г. (поход атамана Ермака за Уральские горы) или 1632 г. (год постройки Ленского острога, позднее – Якутска), а намного раньше – в советский период датировка варьировалась от 30 до 10 тыс. лет до н.э., то есть от появления первого человека в Приморье/на Дальнем Востоке. Подобная структура учебного пособия оказывается вполне устойчивой. Так, учебное пособие по истории Приморского края, изданное в 2021 г., начинается рассказом о «Далеком прошлом Приморья», где отсчет также ведется от первого человека на территории края, только теперь речь идет уже о 40 тыс. лет до н.э. Вышедшее в 2021 г. пособие «История Дальнего Востока России в древности и Средневековье» (для 5–6 классов) начинается с рассуждения о том, с какого момента можно говорить об истории Дальнего Востока («Неужели история нашей малой родины – Дальнего Востока и Хабаровского края как его части – начинается только в середине XVII в.? … Конечно, нет! Прошлое Дальнего Востока теряется в глубокой древно-сти…»6 [27, с. 4]), которое сменяется таблицей, представляющей разные вехи истории Дальнего Востока (один из представленных временных промежутков на ней – «около 10 млн лет назад»). Вероятно, причина устойчивости такого подхода кроется в его продуктивности. Связывание истории Дальнего Востока с появлением первого человека на его территории7 позволяет региону значительно расширить хронологию собственного бытования.
Этот подход, однако, не разрешает проблему полностью, ведь учащемуся необходимо представить человека, с которым он мог бы себя соотнести в социальном, политическом или культурном отношении. Обращение к эпохе «географических открытий», т.е. времени первых землепроходцев8 или начальному периоду продвижения российского государства на восток, решает эту задачу лишь частично: «чело- век социальный» или «человек политический» обнаруживается в веке XVII, но не ранее. И это при том, что учащиеся, например, регионов Центральной России или северо-запада страны посредством своего учебника получили представление о «человеке социальном» или «человеке политическом» весьма подробно, объемно и в развитии: двигаясь в рамках школьной программы к XVII в., они узнали о славянских племенах, начале русской государственности, княжеских усобицах и внешних угрозах, появлении централизованного государства (и месте конкретного региона в нем), а затем – о создании Московского царства, новых политических вызовах и новых способах их преодоления.
Однако для учебников по истории Дальнего Востока даже отсылка к XVII в. как к своего рода «точке отсчета» (времени первых переселенцев и активного освоения территории) оказывается непростой – здесь возникают свои сложности в создании непрерывного нарратива. «Движение на восток в начале XVII в. носило стихийный характер, как правило, было частной инициативой и организовывалось на личные средства», – читаем в пособии по истории Приморского края 2021 г. [15, ч. 1, с. 63]. Эта прерывистость влияет и на форму повествования: период с XVII в. до первой половины XIX в. предстает в учебных пособиях как история отдельных лиц (экспедиций).
В советский период такой подход дополнительно осложняется необходимостью «отбора персоналий» и представления движения на восток как подвига «простых русских людей, выходцев из различных городов и сел западной части Русского государства» [7, с. 22]. Интересно проследить, как менялось количество упоминаемых руководителей сухопутных и морских экспедиций в учебном пособии по истории советского Приморья 1963, 1970, 1976 и 1984 гг. [7; 8; 9; 19]. Так, если в самом первом издании упоминаются фигуры В.Д. Пояркова, Е.П. Хабарова, О. Степанова, Г.И. Невельского и Е.В. Путятина, то уже в 1970 г. рассказ об освоении территории в XVII в. ограничивается только историей «отряда казаков под руководством служилого человека Онуфрия Степанова» [7, с. 22] (за «морской раздел» (XIX в.) по-прежнему остаются отвечать только Г.И. Невельской и Е.В. Путятин). На страницы пособия Поярков и Хабаров вернутся в 1976 г., тогда же появится небольшой, в несколько предложений, раздел про русские сухопутные экспеди- ции 1850-х – 1860-х гг.; в 1984 г. «экспедиционная часть» будет охватывать уже несколько десятков персоналий. По такому же принципу выстроены учебники, опубликованные после 1991 г. Главное отличие в них – вариативность набора персоналий (в т.ч. в зависимости от того, о какой территории идет речь: о Дальнем Востоке в целом или же отдельной его части – Приморском крае, Камчатке и др.).
Однако обращение к эпохе землепроходцев все еще оставляло большой зазор по отношению к «большой истории» или истории регионов европейской части страны – эту проблему в учебных пособиях было призвано решить обращение к истории коренных народов Дальнего Востока и широкие отсылки к категории «государственность». Так, если в главе учебника Ивановской области [17], посвященной возникновению и развитию феодализма, повествование начинается с истории Киевской Руси, то в учебниках по истории советского Приморья раздел, охватывающий период с конца VI по XVII вв., посвящен государству Бохай (698–926 гг.), государству чжурчженей (1115–1234 гг.) и рассказу об истории существования на этой территории коренных народов. Мотивация выбранного подхода представлена в предисловии к изданию 1963 г.: «Исторический путь населения Приморья – это составная часть исторического пути народов нашей страны. И как бы ни отличались события, происходившие здесь, в нашем крае, на разных этапах развития, от событий в других областях страны, мы ясно видим единство исторического процесса с древнейших времен … до наших дней» [19, с. 3]. Можно говорить о том, что подобный подход «наследуется» и выпущенными позднее пособиями, в т.ч. и постсоветскими, однако в последнем случае обоснование предстает в тексте в более сглаженном варианте (либо подразумевается). Например, в учебнике по истории Дальнего Востока за 1999 г. в «Необходимых пояснениях» авторы уточняют, что «население Дальнего Востока с глубокой древности было многонациональным … именно поэтому особое внимание в учебнике уделено рассмотрению этнической истории и культуры, характеру и особенностям национальных отношений в крае» [3, с. 6]. В главе 1 учебника «Мой Приморский край» даются основные характеристики края, где население (многонациональное) предстает одной из них, после чего подчеркивается, что «история приморцев и Приморья не как административной единицы, а как места жизни имеет более глубокие корни» [15, ч. 1, с. 6–7]. Таким образом, апелляция к «многонациональности», актуальная для нарратива «большой истории» как в советский, так и в постсоветский периоды, в этом случае позволяет также выходить за пределы сугубо «русского» Дальнего Востока, позиционируя непрерывность истории территории.
Обращение к истории государства Бохай и государства чжурчженей (шире – первых государств на рассматриваемой территории) позволяет приблизить историю Дальнего Востока к «нормальной истории». Эксплицитно эта мысль представлена в пособии по истории Дальнего Востока для 5–6 классов: в нем третья часть, посвященная истории первых государств на территории российского Дальнего Востока, открывается сравнительной таблицей, в которой представлены основные вехи истории первых государств на территории: 1) Африки и Азии; 2) Европы (как Западной, так и Восточной); 3) Дальнего Востока России. В рамках этой таблицы Дальний Восток заметно отстает (в сравнении с Африкой и Азией), но все же имеет возможность встроиться в «общую повестку»: так, например, государство Бохай (698–926 гг.) расположено на одной строке с Арабским халифатом и Хазарским каганатом [27, с. 48–49]. Сравним с мыслью, которая была озвучена М. Романовой в интервью, посвященном указанному учебнику: «Традиционное представление о цивилизации – о том, что цивилизация у нас развивается только благодаря появлению государства или производительных форм хозяйства – оно … не комплиментарно для Дальнего Востока, хотя у нас все было как у людей. У нас земледелие и скотоводство появляется здесь примерно в VII–VIII вв. н.э., и тогда же появляются первые государственности, и в этом плане мы ничуть не хуже Арабского халифата … или … Империи Карла Великого…» [13].
Примечательно, что в этой же логике выстроены и музейные пространства Дальнего Востока. Примером может послужить постоянная экспозиция Музея истории Дальнего Востока им. В.К. Арсеньева: за залом с археологическими находками (от эпохи палеолита до империи Цзинь и государства Дун Ся) следует экспозиция, рассказывающая об истории коренных народов Дальнего Востока, и только после нее появляется «Кабинет исследователя», представляющий историю продвижения Российской империи на восток. Схожим образом устроена экспозиция Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гродекова9: разделу об истории освоения Приамурья в конце XIX – начале XX вв. («Кабинет чиновника») предшествует Музей Амура и природный отдел, а также комплекс, посвященный культуре коренных народов Хабаровского края.
Важно отметить, что в схожей логике «удлинения истории» и «поиска государственности» выстраивались учебные пособия по истории регионов, лишь в 2018 г. вошедших в состав Дальневосточного федерального округа (Республики Бурятии и Забайкальского края10). Повествование в них, как в советский, так и в постсоветский периоды, начинается с рассказа об археологических находках и особенностях быта проживавших на указанной территории народов и продолжается разговором о различных формах государственности. Однако на этом сходства заканчиваются: дальнейшее повествование, в т.ч. в учебниках, выпущенных после 2018 г., посвящено вхождению указанных территорий в состав Российской империи в рамках истории освоения Сибири.
Дальневосточные учебники в диалоге с «центром»
Характерной чертой учебных пособий по истории Дальнего Востока и его составных частей в постсоветский период становится стремление отстоять ценность этой территории в рамках единого государства и «вернуть» ее в «общий нарратив». В нашей выборке подобный подход присущ прежде всего текстам, опубликованным в Хабаровске или созданным преимущественно хабаровскими исследователями. Подмеченное Д.Е. Ефременко характерное для Хабаровского края «обостренное ощущение миссии изолированного форпоста фронтирной модернизации, о котором центр, чьи интересы он отстаивает и защищает на другом конце континента, позволил себе забыть на несколько де- сятилетий» [20, с. 230], находит свое отражение как в упоминавшемся ранее учебном пособии 1999 г., так и в опубликованных в последние годы в издательстве «Русское слово» учебных пособиях по истории Дальнего Востока с древнейших времен до 1914 г.
Несмотря на вольность слога пособия 1999 г., в его структуре нет программного раздела, говорящего о необходимости пересмотра роли и значения Дальнего Востока в рамках курса отечественной истории. Характерное для региона ощущение оторванности и необходимости апелляции к «эпизодам, которые подпитывают недоверие и разочарование политикой федерального центра» [20, с. 227–228], проходят как ремарки в рамках общего повествования. Например, в параграфе об экономическом развитии края читаем: «…Сдерживающим фактором была и позиция центра, традиционно рассматривавшего Сибирь и Дальний Восток в качестве сырьевого придатка промышленно развитых регионов, не заинтересованных в быстром росте промышленности края»11 [3, с. 49]. В рамках разговора о культурной жизни Дальнего Востока главный тезис был вынесен автором пособия в само название параграфа – «дальний – не значит отсталый». Отдельным жанром здесь становятся вопросы к разделам и отдельным источникам, представленным в пособии в качестве дополнительного материала – они также могут содержать вполне четкую оценку центра (см., напр., вопрос к фрагменту из воспоминаний С.Ю. Витте – «Чем бы ты мог объяснить нарочитое невнимание императора Всея Руси Николая II к событиям на Дальнем Востоке?» [3, с. 88]).
Совершенно другой подход мы видим в серии учебных пособий по истории Дальнего Востока, опубликованной в последние несколько лет. В предисловии к каждому из пособий – для 5–6 классов, 7–8 классов и 9 класса – авторы последовательно излагают собственный взгляд на положение Дальнего Востока в рамках истории страны. Лейтмотивом становится тезис о неправомерном отсутствии Дальнего Востока на страницах учебников по истории России – не только в «древности и Средневековье», но и в Новое время. «“Хрестоматийные” исторические деятели этого периода (Петр I, Екатерина II и др.), оказывается, были осведомлены о наших с вами краях … Тем более странно, почему в современных учебниках по истории России XVII– XVIII вв. есть карты только европейской части государства?..» [26, с. 4–5]. Применительно к истории XIX–XX вв. для авторов учебников большее значение приобретают вопросы политики памяти: кто и как помнит выдающихся деятелей и «простых жителей» Дальнего Востока и кто имеет на это право. Например, сразу за информацией о памятнике Г.И. Невельскому во Владивостоке следует вопрос от авторов учебника: «Выясните, кто инициировал установку этого монумента. Почему городу “понадобился” памятник Г.И. Невельскому? Что он должен был символизировать?» [28, с. 26].
Неудивительно, что вопросы политики памяти чрезвычайно занимают именно хабаровских авторов учебных пособий: можно говорить о том, что они осознанно становятся энергичными акторами в рамках формирования локального нарратива и утверждения собственной версии истории, при этом не ограничиваясь только территорией Хабаровского края. Примечательно, что это остается возможным даже после потери Хабаровском статуса центра Дальневосточного федерального округа – с 2018 г. им становится город Владивосток. Более того, как кажется, этот перенос если и не был причиной появления указанной серии учебных пособий, то значительно стимулировал работу над ней. Первое пособие (для 5–6 классов) было опубликовано уже в 2019 г., примерно через год после начала работы над текстом (по словам авторов) [13]. Как уже упоминалось ранее, это не первый проект по созданию регионального учебного пособия, однако он единственный говорит обо всем Дальнем Востоке12 и единственный представляет собой результат личной инициативы авторов (по меньшей мере – позиционируется таким образом): пособие «Мой Приморский край» (2021 г.) выходит прежде всего по инициативе губернатора О.Н. Кожемяко, пособие по истории Сахалина и Курильских островов (2022 г., три пособия – для 6–7 классов, 8–9 классов и
10 класса) было проектом регионального института развития образования.
«Неидеальные деловые люди», прославившие Дальний Восток
Так как существенная часть истории Дальнего Востока имперского периода в учебных пособия как советского, так и постсоветского периодов представлена через ряд биографий, проблема выбора персоналий и методы их описания играют значительную роль. В этом ряду выделяется учебное пособие по истории Дальнего Востока, опубликованное в Хабаровске в 1999 г. С одной стороны, оно предлагает взгляд на историю региона «в его единстве»: в советский период после постановления 1959 г. «О некоторых изменениях в преподавании истории в школах» и приказа 1961 г. «Об усилении краеведческой работы в школах и издании краеведческих пособий для школ» начинается активный выпуск пособий по истории отдельных административных единиц, и вместо истории Дальнего Востока речь в большей степени идет об истории советского Приморья (в рассматриваемый период публикуются учебные пособия по истории других административных единиц, например, Сахалинской области, Магаданской области и др., однако серию по истории советского Приморья можно рассматривать как одну из самых активных и устойчивых). С другой стороны, оно является ярким примером текста переходного периода, когда автор, по-прежнему не избавившись до конца от логики (общественно-экономические формации) и вокабуляра («репрессивная машина русского царизма») советского периода, предлагает собственные суждения по тем или иным вопросам. Его оценка важных для региона персоналий сводится к следующему: споря с советской иде-ологией13 и говоря о важной роли капиталистов, «одержимых идеей развития торговли и промышленности», без которых освоение региона не было бы успешным, он завершает главу следующими словами: «Деловые люди, прославившие Дальний Восток во времена его освоения, не все и не всегда были “идеальными и правильными”. Нередко они наживали начальный капитал далеко не самым законным образом.
Но бесспорно другое – без них, без их упорства и настойчивости наш край не достиг бы той степени обустроенности, какую он имел к началу XX в. Это по-прежнему была бы таежная, дикая глухомань, край ссыльнопоселенцев, земля, которая в конце концов стала бы легкой добычей соседних могущественных государств. Все без исключения известные предприниматели края занимались благотворительностью. … И это второе главное дело жизни наших знаменитых земляков никогда не забудут благодарные потомки» [3, с. 51].
Несмотря на то, что это высказывание приводится в главе про экономическое развитие края и связано прежде всего с именами конкретных предпринимателей – семьей Плюсниных, купцом Тифонтаем и братьями Хлебниковыми, имплицитно схожим образом автор оценивает деятельность ряда первых землепроходцев, прежде всего Е.П. Хабарова и В.Д. Пояркова. Так, среди всех рассказов о персоналиях лишь рассказ о Хабарове, из которого автор не смог совершенно убрать упоминание его заслуг, сопровождается ремаркой «сам Хабаров стремился в первую очередь к личному обогащению» [3, с. 11]. В случае с Поярковым повествование о «незаконной» стороне его личности перенесено в раздел с источниками, приводящимися после каждой главы и призванными дополнить основное повествование: заслуги из основного текста (впервые прошел по берегам Амура и разведал Приамурье) оказываются связаны с нечеловеческим отношением к служилым, описанным в труде Н. Костомарова «Сибирские землеискатели XVII века» (не пустил в острог возвратившихся служилых, которые не смогли выполнить поставленную перед ними задачу, не дал хлеба и предложил есть мертвых туземцев).
Приведенные выше высказывания интересны тем, что охватывают как зоны умолчания, так и закрепившиеся в нарративе модели. Так, с одной стороны, «напористость, работоспособность, смекалка и целеустремленность» [15, ч. 1, с. 66] первопроходцев, а также необходимость постоянной борьбы с природой становятся основными характеристиками региона и его населения как в советский, так и в постсоветский периоды14. С другой, отдельный инте- рес представляет мысль автора о совмещении в «деловых людях» «незаконности» и «блага», которая не найдет отражения в других учебных пособиях, но, как кажется, может рассматриваться как еще одна характеристика региона.
Распад СССР провоцирует выход целой волны новых учебников и учебных пособий по истории, в которых переосмысляются и переписываются отдельные главы из жизни страны. Закономерно происходит отход от привычных советских трактовок, где любой чиновник и шире – человек, связанный с царским режимом – становится угнетателем простого народа, взяточником, тунеядцем или соединяет в себе все указанные характеристики. Вместе с тем критически-одобрительное отношение к деятельности отдельных лиц, как это представлено в хабаровском пособии, является скорее исключением из правил, но не единственным в своем роде и выходит за рамки истории Дальнего Востока. Например, в энциклопедии коммерции Сибири, в статье, посвященной иркутскому купцу Михаилу Васильевичу Сибирякову, читаем: «М.В. был человеком своего времени: в условиях, когда власти не столько способствовали бизнесу, сколько вымогали у предпринимателей, когда возможности получения больших прибылей были достаточно широкими, а риск – постоянной привычкой профессии бизнесмена, общ. деятельность все время толкала его на конфликты с властями, а горячий характер нередко приводил к нарушению закона» [11, с. 47–48].
Можно говорить о том, что артикулированная автором двуликость деятелей региона чаще оказывается в зоне умолчания. Так, в учебном пособии 2021 г. раздел, посвященный истории Приморского края с 1990-х гг. по настоящее время, практически полностью лишен «биографического подхода»: нарратив выстраивается через последовательное описание проектов и сводит упоминание отдельных акторов к минимуму, вместо преступлений отдельных людей речь идет об «ухудшении криминогенной ситуации» в 1990-е гг., спровоцированной социально-бытовыми проблемами. Радикально иную точку зрения мы можем увидеть в пособии по истории Сахалинской области: в нем авторы в рамках основного текста (хоть и кратко) прямо говорят об отставках глав региона (в т.ч. – о сопровождавшихся коррупционным скандалом). Можно предположить, что в данном случае обвинения в коррупции становятся одной из при- чин (но далеко не единственной) недовольства работой глав региона, что дает свободу в изложении фактов.
Заключение
Таким образом, школьные учебные пособия по истории Дальнего Востока (и его отдельных административных единиц), созданные в советский и постсоветский периоды, имеют ряд общих черт. С одной стороны, речь идет о реакции на устойчивое представление о собственной истории, которая в субстанциональном отношении видится относительно короткой (фактически – не ранее второй половины XIX в.), и выработке позиций, позволяющих Дальнему Востоку «сравняться» с историческим центром и/или удлинить свою историю. С другой – материалы пособий указывают на стремление позиционировать особость региона посредством оценки действий «центра», которые трактуются как причина «заброшенности» территории, и ввода в нарратив сюжетов о предприимчивых и много сделавших для развития территории, но «неидеальных» людях.
Список литературы Короткая история, «неидеальные деловые люди» и борьба за символический капитал: Дальний Восток на страницах региональных учебных пособий
- В начальной школе будут изучать историю // Российская газета. 2022. 19 апреля. URL: https://rg.ru/2022/04/19/v-nachalnoj-shkole-budut-izuchatistoriiu.html?ysclid=ln644wqa56221221937
- Гузенкова Т.С. «Своя война» (Великая Отечественная война в учебниках истории и представлениях школьников России, Белоруссии, Украины и Приднестровья) // Вторая мировая и Великая Отечественная войны в учебниках истории стран СНГ и ЕС: проблемы, подходы, интерпретации: материалы международной конференции (Москва, 8–9 апреля 2010 г.). М., 2010. С. 13–19.
- Завалишин А.Ю. История Дальнего Востока России в новое и новейшее время (середина XVII–XX вв.): учебное пособие для 8–9 классов общеобразовательных учреждений. Хабаровск, 1999.
- Историческое краеведение Сахалинской области. История Сахалина и Курильских островов в Новое время: учебное пособие для 8–9 классов общеобразовательных организаций. М.: Русское слово, 2022.
- Историю будут учить с первого класса в рамках других предметов // Вести.Ру. 2022. 19 апреля. URL: https://www.vesti.ru/article/2706974
- История Сахалинской области: учебное пособие по краеведению для учащихся 7–10 классов. Южно-Сахалинск, 1981.
- История советского Приморья: учебное пособие для учащихся 7–10 классов школ Приморского края. Владивосток, 1970.
- История советского Приморья: учебное пособие для учащихся 7–10 классов школ Приморского края. Владивосток, 1976.
- История советского Приморья: учебное пособие для учащихся 7–10 классов школ Приморского края. Владивосток, 1984.
- Касьянов раскритиковал учебник по новейшей истории // Лента. 2001. 30 августа. URL: https://lenta.ru/news/2001/08/30/history/
- Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции в Сибири: в 4-х т. Т. 4. Кн. 1. / Под ред. Л.М. Дамешека, Д.Я. Резуна. Новосибирск: РИПЭЛ плюс, 1997.
- Куркин В., Лавренов С. Трансформация школьного исторического образования в 1990-е гг. // Научно-аналитический журнал «Обозреватель-Observer». 2018. № 7. С. 104–114.
- Марина Романова: история Дальнего Востока, которую не знают дальневосточники. URL: https://www.youtube.com/live/16PgkU4zuPc?si=KNoiVGp15hWLLwGe
- Матюшин Г.Н. Историческое краеведение. М., 1987.
- Мой Приморский край. Страницы истории. Основное общее образование: учебное пособие: в 2-х ч. М., 2021.
- Морозов А.Ю. История Великой Отечественной войны в региональных учебниках истории XXI века // Преподавание военной истории в России и за рубежом: сборник статей. СПб., 2018. С. 200–211.
- Наш край в истории СССР: учебное пособие по краеведению для 7–10 классов школ Ивановской области. Ярославль, 1971.
- Одна на всех // Полит.ру. 2013. 24 апреля. URL: https://polit.ru/article/2013/04/24/history/
- Очерки истории советского Приморья. От эпохи первобытнообщинного строя до настоящего времени: учебное пособие. Владивосток, 1963.
- Политика памяти в России – региональное измерение / Под ред. А.И. Миллера, О.Ю. Малиновой, Д.В. Ефременко. М.: ИНИОН, 2023.
- Путин назвал приоритет России на XXI век // РБК. 2023. 12 сентября. URL: https://www.rbc.ru/politics/12/09/2023/650001b89a7947ca2d6bdd2b
- Путин объяснил, зачем нужен единый учебник по истории // РИА Новости. 2014. 16 января. URL: https://ria.ru/20140116/989593596.html
- Ремнев А.В. Россия Дальнего Востока. Имперская география власти XIX – начала XX вв. Омск, 2004.
- Сафронова Ю.А. Историческая память: введение: учебное пособие. СПб., 2019.
- С первого сентября запущен курс «Основы российской государственности» // Минобрнауки России. 2023. 01 сентября. URL: https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/novosti-ministerstva/72464/
- Стрелова О.Ю. История Дальнего Востока России в Новое время (XVII–XVIII вв.): учебное пособие для 7–8 классов общеобразовательных организаций. М.: Русское слово, 2022.
- Стрелова О.Ю., Романова М.И. История Дальнего Востока России в древности и Средневековье: учебное пособие для 5–6 классов общеобразовательных организаций. М.: Русское слово, 2021.
- Стрелова О.Ю., Романова М.И., Перфильева А.С. История Дальнего Востока России в Новое время (1801–1914 гг.): учебное пособие для 9 класса общеобразовательных организаций. М.: Русское слово, 2023.
- Суслов А.Б., Шуйская Е.В. Российская история XXI века в зеркале школьных учебников истории // Вестник Пермского университета. История. 2021. № 4. С. 56–68.
- Тагильцева Н.Г., Грибан И.В. Память о русско-турецкой войне 1877–1878 гг.: отражение в отечественной культуре и школьных учебниках истории // Педагогическое образование в России. 2017. № 12. С. 12–19.
- Учебник как модель мира и общества / Под ред. Т.В. Артемьевой, М.И. Микешина. СПб., 2021.
- Ферро М. Как рассказывают историю детям в разных странах мира. М.: Книжный Клуб, 2010.
- Фукс А.Н., Ковригин В.В. Проблемы фальсификации истории Великой Отечественной войны и содержание школьных учебников по отечественной истории // Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». 2017. № 2. С. 66–70.
- Sidorov, D., 2009. Visualizing the former Cold War «other»: images of Eastern Europe in world regional geography textbooks in the United States. Journal of Educational Media, Memory, and Society, Vol. 1, no. 1, pp. 39–58.
- Wang, Z., 2018. Memory politics, identity and conflict: memory politics and transitional justice. London: Palgrave Macmillan.