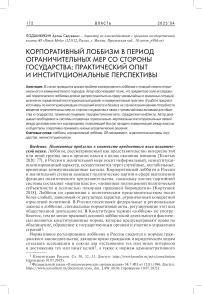Корпоративный лоббизм в период ограничительных мер со стороны государства: практический опыт и институциональные перспективы
Автор: Подшибякин А.С.
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политология
Статья в выпуске: 4 т.33, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье проводится анализ проблем корпоративного лоббизма с позиций неоинституционального и коммуникативного подходов. Автор обосновывает тезис, что предметное поле исследований теоретического лоббизма должно распространяться на сферу чрезвычайных и кризисных ситуаций, включая их нормативный институциональный дизайн и коммуникативные практики. В работе предлагаются меры по институционализации отношений власти и бизнеса на случай возникновения потребности введения ограничительных мер со стороны государства в связи с чрезвычайными вызовами для общества и государства, такими как пандемия, террористические акты, гражданские конфликты. Автор доказывает необходимость системы отлаженных горизонтально–вертикальных институциональных связей между органами власти и корпорациями, позволяющей быстро наладить коммуникацию между властью и обществом, оперативно принимать нужные управленческие решения.
Лоббизм, корпоративный лоббизм, GR-менеджмент, ограничительные меры государства, неоинституционализм
Короткий адрес: https://sciup.org/170211068
IDR: 170211068
Текст научной статьи Корпоративный лоббизм в период ограничительных мер со стороны государства: практический опыт и институциональные перспективы
Нормативное регулирование лоббизма в России сводится к нормам гражданского законодательства, дающим право гражданам и юридическим лицам создавать ассоциации и союзы для отстаивания тех или иных интересов и достижения тех или иных целей2, а также к нормам административного права, обязывающим органы государственной власти отвечать на обращения граждан и юридических лиц1. Российские особенности лоббизма рассматривались в целом ряде публикаций в контексте проблем отсутствия общего закона «О лоббизме» [Васильева 2008: 141] и перспектив его правового регулирования [Спектор 2016]. Собственную специфику имеет лоббизм некоммерческих организаций – ассоциаций, союзов и других объединений граждан и юридических лиц, созданных чаще всего либо для достижения какой-то социальной цели (например, помощь ветеранам СВО), либо для представительства некоторой группы лиц или компаний (например, АКОРТ – ассоциация компаний оптово-розничного рынка).
Исследователи, предпринимающие попытки интегрировать лоббистские и политические проблемы, например Дэвид Коэн, Александр Кацайтис, Матиа Ваннони, в центр внимания ставят вопросы официальных практик сдерживания лоббизма и противостояния «изощренным» стратегиям и технологиям групп интересов [Coen, Katsaitis, Vannoni 2024]. Авторы предлагают разрабатывать нормы государственного регулирования, позволяющие ограничивать негативные последствия лоббистской активности. Власть обеспокоена резким ростом количества ресурсов, выделяемых за последние 30 лет на лоббистскую деятельность, направленную на оказание влияния на политику национальных правительств. Дискуссии вращаются вокруг таких тем, как прозрачность действий участников, политический контроль, а также административная эффективность и результативность органов власти. Усиливается внимание со стороны политиков к проблемам регулирования лоббизма, однако более тонкими и динамичными стали и стратегии, применяемые группами интересов в конкурентной и многоуровневой среде.
Насколько обоснованы эти опасения? Приведем лишь один пример, свидетельствующий об уровне экспертной проработки и теоретической концептуализации «заявки» корпораций на политическое участие. С конца 1980-х гг. за рубежом, преимущественно в Америке и Европе, развивается научное направление, получившее название corporate political activity ( CPA ), обозначающее «стремление компании оказать влияние на формирование политического курса, а именно на отраслевую и регуляторную политику правительства» [Hillman, Keim, Schüler 2004: 837]. Идея необходимости разработки «концепции корпоративной политической активности» находит в мире все больше сторонников, происходит ее становление как академической субдисциплины [Schuler, Rehbein, Green 2019: 1400]: ее популяризацией занимаются специализированные международные журналы, такие как Business and Politics .
В данной работе предполагается принять участие в дискуссии политологов о роли в разработке политики неполитических акторов, таких как лоббисты [Coen, Katsaitis 2024] и специалисты по GR-менеджменту. За основу принято определение GR, данное А.А. Дегтяревым, вполне соотносимое в данном аспекте проблемы с лоббизмом: «GR – это коммуникативный менеджмент осуществления влияния негосударственных агентов на принятие публичногосударственных решений для инкорпорирования партикулярных (в основном “неполитических”) вопросов в публично-государственную повестку и их последующего разрешения» [Дегтярев 2023: 357]. Интерес представляет описанный А.А. Дегтяревым «феномен инверсии» представляемых в публичной политике партикулярных интересов, когда для их продвижения необходимо конвертировать цели экономической стратегии в адекватные частные вопросы при построении общей государственной повестки и в конкретные задачи стратегии и тактики уже отдельной GR-кампании [Дегтярев 2023: 348].
В качестве «общей государственной повестки» власти и бизнеса предлагается рассмотреть возникающие новые политические угрозы и риски, ставшие приметой времени, формирующие социальный запрос на их исследование и предложение комплекса мер оперативного реагирования. Для обсуждения предлагается следующий тезис: предметное поле теоретического лоббизма должно распространяться на сферу чрезвычайных и кризисных ситуаций, включая их нормативный институциональный дизайн и коммуникативные практики.
Теоретическое обоснование исследования . Проблема кооперации бизнеса и власти для решения общегосударственных задач фрагментарно прорабатывалась в рамках теорий коммуникации (У. Бек, У. Гибсон, И. Дженис, К.В. Дойч, П. Лазарсфельд, Г. Лассуэл, У. Липпман, П. Макинтош, Г.М. Маклюэн, Б. Макнайр), теорий неоинституционализма (Д. Марч, М. Олсон,), теорий сетевого анализа (Х. Компстон, Д. Марш, Р. Роудс, Л.О. Туул). Однако целостная концепция пока не выработана. Коммуникативный подход в исследовании GR и лоббизма в данном аспекте понимания проблемы опирается на концепции власти, объясняющие потребность во взаимодействии политических и неполитических акторов. Х. Арендт институт власти соотносит со способностью людей действовать «совместно, сообща и в согласии». Ю. Хабермас выдвинул идею коммуникативной рациональности власти, согласно которой все члены общества являются участниками процесса коммуникации и пытаются достичь рационального согласия. Концепция коммуникативного действия Ю. Хабермаса, положенная в основу политической теории коммуникации, интерпретирует GR как вид социально-политической коммуникации и тип «коммуникативного события».
Неоинституционализм особую роль отводит публичной политике, нормативно конструирующей поле взаимодействия институтов власти и организаций гражданского общества. Релевантными целям данного исследования являются концепции исторического институционализма (Ф. Лонгстрет, К. Телен, С. Штейнмо) и дискурсивного институционализма (В. Шмидт). Исторический институционализм позволяет исследовать процессы возникновения и изменения институтов под влиянием экзогенных факторов, помещая институты в более широкий контекст исторических событий, явлений и складывания неформальных институтов, находящихся в сложной системе взаимодействий с государственными политическими институтами.
Дискурсивный институционализм (discursive institutionalism) концептуально разработан Вивьен Шмидт, которая обобщила под этим понятием несколько теорий, касающихся содержания идей и интерактивных процессов дискурса, рассматриваемых в институциональном контексте [Schmidt 2011]. Принципиальное отличие от иных направлений неоинституционализма (социального, исторического) заключается в том, что институты в нем отходят на второй план, описываются понятием институционального контекста, а дискурсивные способности агентов по конструированию смыслов выдвигаются на первый план. Агентами выступают дискурсивные коалиции и дискурсивные политические сообщества, генерирующие идеи. Важнейшим эле- ментом концепции является интерактивный процесс дискурсивного взаимодействия в институциональном контексте.
Различаются два типа дискурса: «координационный» – между политическими субъектами и «коммуникативный» – между политическими субъектами и гражданским обществом. Агентами в коммуникативном дискурсе являются «дискурсивные сообщества», объединяющие политиков, экспертов, лоббистов. В «координационном дискурсе» преобладает направленность «сверху–вниз», в «коммуникативном дискурсе» – «снизу–вверх». Дискурсивные сообщества организуют коллективные действия, используя различные ресурсы, такие как средства массовой информации, политические форумы, общественные движения, возможности групп интересов, интеллектуалов, формирующие общественное мнение.
Краткий обзор концептов дискурсивного институционализма позволяет сделать следующие выводы о преимуществах его методологии для анализа лоббизма. Лоббизм может быть рассмотрен как коммуникативное явление, а не только как структурный элемент институциональной системы. Дискурс является ключевой характеристикой коммуникативного взаимодействия акторов. Акторами коммуникативного взаимодействия являются дискурсивные сообщества, а не формально институционализированные группы. В случае лоббизма акторами выступают группы интересов, группы давления, использующие инструменты коммуникативного воздействия. Цели акторов заключаются в установлении контроля над основными категориями и идеологемами дискурса посредством интерпретации их смыслов. Оказание влияния на политическую власть представителей гражданского общества реализуются посредством дискурсивных стратегий, а не институциональных норм.
Обсуждение. Дискуссия по проблемам политической деятельности лоббистов и GR -экспертов ведется в нескольких направлениях. Где и когда лоббисты взаимодействуют с политиками [Newmark, Nownes 2024: 145]? Каковы правила игры? Как институционализировано взаимодействие? Как и когда лоббисты выбирают площадки? В каких формах проявляется политическое влияние? В каких местах осуществляется взаимодействие в процедурах принятия политических решений [Albareda, Braun, Fraussen 2023; Coen, Katsaitis 2019], взаимодействие с политическими деятелями [Allern et al. 2021] и влияние на политику [Klüver 2013]? Потребность во взаимодействии бизнеса и власти возникает прежде всего в тех областях, где политикам требуются технические знания для осуществления регуляторной функции. Мобилизация интересов организаций гражданского общества востребована в тех областях политики, которые в широком значении понимаются как (пере)распредели-тельные, например занятость, миграция. Обзор публикаций показывает, что выбор между исполнительной и законодательной ветвями власти осуществляется в пользу исполнительных органов власти [Cooper, Boucher 2024: 129]. Именно исполнительные органы власти являются основным объектом воздействия со стороны лоббистов, поскольку их цель – процесс принятия правил и реализация политики [McKay 2011].
Коалиции адвокации некоторыми исследователями рассматриваются как одна из перспективных форм политической организации [Nohrstedt, Heinmiller 2024]. Понятие «адвокационные коалиции» упоминаются в нескольких концепциях политического процесса для описания групп субъектов, имеющих общие интересы и координирующих усилия по влиянию на государственную политику. С точки зрения целей данного исследования представляет интерес способность участвовать в выстраивании совместных стратегий с представителями власти. В качестве формы влияния следует также назвать «прямое гражданское лоббирование», или «низовое влияние» на политиков со стороны организаций гражданского общества. «Низовое влияние» обозначает усилия групп по мобилизации лидеров общественного мнения, выборных должностных лиц местного уровня, руководителей предприятий, которые имеют личные отношения с целевыми выборными должностными лицами [Berry, Wilcox 2018: 268].
С точки зрения практик отработки каналов взаимодействия власти и общества интерес представляют практики «информационного лоббизма» в системе представительства интересов гражданского общества в органах государственной власти современной России. Информационный лоббизм имеет целью доведение до сведения лиц, принимающих решения, информации социальных субъектов, от лица которых он выступает [Chalmers 2013]. Результаты анализа показывают, что информационные тактики в целом являются более значимыми факторами, определяющими доступ к представителям власти, чем типы информации. Информационное лоббирование рассматривается как неотъемлемая черта современной демократии. Условие его осуществления – прозрачность [Lohmann 2024]. Положительная роль информационного лоббирования заключается в том, что повышается эффективность принятия политических решений за счет более качественной и всесторонней информационной их проработки [Polk 2024].
Уточним основные понятия и категории, используемые в данной работе в рамках коммуникативного подхода в исследовании лоббизма. Коммуникативное событие – это процесс передачи информации (сообщения) от одного человека к другому. Оно может включать в себя различные виды коммуникации, такие как переговоры, публичное выступление, письменное обращение, конклюдентные действия (использование символики, возложение цветов, демонстрации) и т.д. Коммуникативные события могут происходить в различных контекстах, таких как семья, трудовой коллектив, друзья, выборы, социальные сети и т.д. Коммуникативная стратегия – это план действий, который включает выбор каналов коммуникации, создание контента, определение целей коммуникации и оценку результатов. Коммуникативная стратегия помогает организациям достигать своих целей и улучшать отношения с клиентами. Таким образом, лоббизм как коммуникативное явление – это процесс, в котором определенные группы интересов используют различные коммуникативные стратегии для влияния на принятие управленческих и политических решений органами государственной власти и местного самоуправления.
В современных политических практиках условием для возникновения «коммуникативного события», во многом определяющим успешность реализации целей его участников, является наличие институциональных площадок для практической организации сетевого взаимодействия. Предлагаем рассмотреть в качестве коммуникативного события формирование «общей государственной повестки» с точки зрения каналов коммуникации и способов продвижения коммуникативных стратегий.
Результаты исследования. Отсутствуют пока и институциональные площадки, позволяющие объединить совокупность горизонтально-вертикальных, формальных и неформальных коммуникаций, которые могут стать «полигоном» отработки новых технологий своевременного компетентного и эффективного государственного управления лоббистскими практиками.
В западной политической культуре лоббисты зачастую не только выступают выразителями частных, партикулярных интересов, но и выполняют роль экспертов, помогающих представителям власти принимать более взвешенные и сбалансированные административно-политические решения [Фельдман 2014: 120]. Здесь совпадают интересы как самого государственного регулятора, так и корпораций, организаций гражданского общества.
В случае возникновения потребности введения ограничительных мер со стороны государства, например в связи с новым чрезвычайным вызовом для общества и государства (новая пандемия, боевые действия, гражданские конфликты и т.д.), необходима готовая система отлаженных горизонтально-вертикальных институциональных связей между органами власти и корпорациями, позволяющая быстро наладить коммуникацию между властью и обществом, оперативно принимать нужные управленческие решения и мобилизовать НКО на достижение общенациональных задач. Коммуникацию необходимо заранее правильно и эффективно выстроить под вероятную экстренную ситуацию.
В России в недавнем прошлом уже есть опыт, на который можно опираться. Во время пандемии COVID -19 в 2020–2021 гг. в России такие коммуникативные площадки создавались ad hoc при органах федеральной и региональной исполнительной власти, в условиях крайнего дефицита времени, зачастую в социальных сетях и мессенджерах. Примером могут послужить еженедельные совещания продовольственных и непродовольственных федеральных торговых сетей, проходившие все эти два года онлайн на площадке Минпромторга России. Все участвовавшие в этих совещаниях крупные торговые сети информировали Минпромторг и другие вовлеченные федеральные органы исполнительной власти об уровне заболеваемости персонала, эволюции и трендах продаж, поведении покупателей (недовольных ограничительными мерами по борьбе с COVID ), успехах и проблемах исполнения ограничительных мер по борьбе с пандемией, экономическом состоянии компаний; давали оценку регуляторного воздействия как на уже введенные меры, так и на проекты по введению новых ограничений; предлагали и запрашивали меры государственной поддержки и т.д.
Такие же совещания проводились Минпромторгом РФ с производителями товаров народного потребления, Минсельхозом РФ (предприятия агроиндустрии, губернаторы регионов, подведомственные предприятия на территории их субъектов федерации и т.д.). Эти неформальные практики позволяли повысить эффективность и согласованность действий всех акторов процесса лоббирования частных интересов и государственного управления, повысить качество, скорость и эффективность принимаемых ими решений. Нормативное институциональное закрепление таких практик позволит создать прочную основу для открытого и прямого взаимодействия власти и экономических организаций гражданского общества.
Однако не всякая институционализация может быть признана эффективно реализованной. Например, такая институционализированная площадка1, как Общественная палата России, не была вовлечена в концептуализацию, подготовку и принятие управленческих решений в период пандемии COVID-19, что позволяет считать ее неудачным примером института, который мог бы эффективно использоваться для лоббизма в период ограничительных мер. Не зря в отчете в связи с 20-летием Общественной палаты события COVID-19 2020–2021 гг. никак не упомянуты1. Одной из причин такой невысокой эффективности может быть отсутствие активного информирования со стороны Общественной палаты о тех или иных конкретных способах решения различных проблем государственных органов власти, ответственных за принятие решений.
Примером трагических событий, в ликвидации последствий которых могла бы быть полезна институционализация лоббизма НКО, может стать осмысление опыта борьбы с реальной террористической угрозой. 22 марта 2024 г. исламские террористы совершили террористический акт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области, обернувшийся многочисленными жертвами среди мирных жителей. Торговые сети «в прямом эфире» вели горизонтальную координацию при эвакуации работников своих магазинов в соседнем торговом центре «Крокус», в ручном режиме связывались с сотрудниками частных охранных предприятий, администрацией торгового центра, со всеми сотрудниками в магазинах сети, управляли их эвакуацией до момента, пока все они оказались в безопасности. На следующий день торговые центры и торговые сети вывели усиленные смены ЧОП для охраны своих объектов и спокойствия персонала. Эффективной вертикальной коммуникации с государственными органами власти в этот момент, к сожалению, не было. Государство не получало всю полноту картины о происходящем «на земле», не получало всю информацию и не могло эффективно и, главное, быстро действовать на ее основе.
Институциональной рамкой для взаимодействия бизнеса и власти мог бы стать федеральный закон «О лоббизме», позволяющий установить следующие институциональные нормы:
-
– обязательную регистрацию лоббистов для ведения лоббистской деятельности;
-
– введение обязательной отчетности лоббистов;
-
– вменение в обязанность лоббистам соблюдать правила этичного ведения своей деятельности;
-
– запрет государственным служащим после отставки становиться лоббистами в течение определенного периода времени.
Однако, учитывая его неоднозначные перспективы с точки зрения принятия в Государственной думе, следует уже сейчас подумать над разработкой необходимых подзаконных нормативных актов и о внесении дополнений в действующие федеральные законы и кодексы:
-
– ввести новую статью в Кодекс об административных правонарушениях РФ об ответственности за нарушение законодательства о лоббизме;
-
– постановление Правительства РФ о конкретных правилах регулирования лоббизма во исполнение соответствующего федерального закона, включая обязанности федеральных органов исполнительной власти формировать консультативные органы для лоббистских структур, регламенты их работы;
-
– регламент выполнения этой государственной функции для Министерства юстиции РФ, которое могло бы быть ответственным федеральным органом исполнительной власти;
-
– региональные законы для субъектов федерации, а также соответствую щие муниц ипальные акты для органов местного самоуправления.
Институционализация лоббистской деятельности в значительной степени может способствовать формированию политической культуры общества, повысить эффективность государственного управления, открывая новые возможности регламентированного законом взаимодействия бизнеса и власти. Институционализация лоббирования позволила бы лучше понимать кризисные ситуации и быстрее реагировать на них, а также уравновешивать частные и публичные интересы различных стейкхолдеров – групп интересов и влияния.