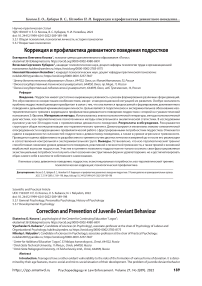Коррекция и профилактика девиантного поведения подростков
Автор: Екатерина Олеговна Косова, Вячеслав Сергеевич Кубарев, Николай Иванович Нелюбин
Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd
Рубрика: Психокоррекция и регуляция состояний
Статья в выпуске: 2 (89), 2022 года.
Бесплатный доступ
Введение. Подростки имеют достаточно выраженную уязвимость к рискам формирования различных форм девиаций. Это обусловлено их возрастными особенностями, макро- и микросоциальной ситуацией их развития. Особую значимость проблема подростковой девиации приобретает в связи с тем, что она является предпосылкой к формированию делинквентного поведения и дальнейшей криминализации личности. Целью является теоретическое и экспериментальное обоснование изо- терапевтического тренинга коррекции и профилактики девиантного поведения подростков с опорой на гуманистический психоанализ Э. Фромма. Материалы и методы. Использовались анализ психологической литературы, методы психологической диагностики, изо-терапевтические психотехники и методы описательной и аналитической статистики. В исследовании приняли участие 30 подростков с проявлениями девиантного поведения. Результаты и обсуждение. Раскрываются структура и общая логика реализации изо-терапевтического тренинга. Демонстрируются механизмы знаково-символической опосредованности в коррекционно-профилактической работе с фрустрированными потребностями подростков. Отмечаются сдвиги в выраженности склонностей подростков к девиантному поведению, а также в уровне агрессии и тревожности. Проводится оценка эффективности разработанного тренинга путем диагностических измерений до и после его реализации и сопоставления контрольной и экспериментальной групп. Выводы. Установлено, что изо-терапевтический тренинг способствовал снижению уровня девиантного поведения, реактивной и личностной тревожности, а также прямой и косвенной вербальной агрессии подростков. Участие в тренинге позволило подросткам не только осознать свои фрустрированные экзистенциальные потребности и получить опыт освоения конструктивных форм их удовлетворения, но и дестигматизировать образ самого себя в контексте собственного самосознания.
Девиантное поведение, подростки, экзистенциальные потребности, изо-терапевтический тренинг, психологическая коррекция, психологическая профилактика
Короткий адрес: https://sciup.org/149139690
IDR: 149139690 | УДК: 159.9.07 | DOI: 10.24412/1999-6241-2022-289-189-198
Текст научной статьи Коррекция и профилактика девиантного поведения подростков
Organizational Psychology; ;
Nikolay I. Nelyubin 3, Candidate of sciences (in Psychology), associate-professor at the chair of Practical Psychology; ;
Актуальность, значимость и сущность проблемы. Особую значимость проблема подростковой девиации приобретает в связи с тем, что она является предпосылкой к формированию делинквентного поведения и дальнейшей криминализации личности. Это обстоятельство диктует представителям психологопедагогического сообщества ряд приоритетных задач методологического характера: разработку теоретических моделей и концепций, позволяющих по-новому осмыслять феномен подростковой девиации; поиск средств профилактики и коррекции девиантного поведения, отвечающих требованиям эффективности и релевантности возрастно-психологическим особенностям подростков; достижение внутренней согласованности между концептуально-объяснительным уровнем анализа явления подростковой девиации и конкретно-методическим уровнем организации психолого-педагогической деятельности по профилактике и коррекции девиантного поведения. На стыке данных задач актуализируется проблема, сущность которой заключается в сохраняющемся противоречии между концептуальными и конкретно-методическими подходами к профилактике и коррекции девиантного поведения подростков. Необходимость преодоления данного противоречия задает перспективы для разработки новых опытно-экспериментальных изысканий в данной предметной области.
Целью является теоретическое и экспериментальное обоснование изо-терапевтического тренинга коррекции и профилактики девиантного поведения подростков с опорой на гуманистический психоанализ Э. Фромма.
Теоретические предпосылки и обзор проблемы. В современной литературе по проблеме подростковой девиации говорится, что за последние годы наблюдается тенденция к увеличению количества девиантных подростков. Т. В. Шипунова отмечает рост, омоложение и феминизацию девиаций несовершеннолетних [1]. О соответствующей тенденции и ослаблении социального контроля ведут речь такие авторы, как
О. В. Погожева, С. М. Плиев [2], Н. В. Бондаренко [2], Т. А. Хагуров [4].
В группе риска оказываются подростки, что обусловлено в первую очередь их возрастными особенностями: амбивалентностью мотивационно-волевых и эмоциональных свойств личности, противопоставлением себя нормативно-ценностной системе взрослых, противоречием между тенденцией к обособлению и поиском эталонов для идентификации [5], повышенной чувствительностью к критике и внешним оценкам, стремлением к самоутверждению среди сверстников. Все эти особенности создают предпосылки для возникновения девиаций именно в подростковом возрасте. Это подтверждается и статистическими данными. Так, С. А. Беличева на основе контент-анализа 1000 дел, рассматриваемых комиссией по делам несовершеннолетних, установила, что пик девиаций «приходится на подростковый возраст, так называемый маргинальный переходный период от детства к зрелости… подростки от 11 до 16 лет составляют 2/3 рассматриваемых на комиссии несовершеннолетних» [6, с. 30].
Большинство авторов единодушны в том, что основным методом решения проблемы подростковой девиации и делинквентности является в первую очередь профилактика. Причем, как отмечает Т. В. Шипунова, «превентивные мероприятия должны быть направлены не только на так называемые „группы риска“, но и на другие („благополучные“, „нормаль-ные“) группы подростков» [1, с. 116]. В то же время она считает, что, «не оставляя без внимания другие группы подростков, следует сориентировать превентивную политику на старшую возрастную группу как наиболее неконтролируемую, склонную к совершению насильственных преступлений и главное — имеющую достаточный физический потенциал и социальный опыт для реализации поставленных целей» [1].
На сегодняшний день в литературе выделяются следующие направления профилактики девиантного поведения подростков: социальное, педагогическое, юридическое и социально-психологическое сопровождение девиантных подростков. Т. В. Шипунова представляет широкий перечень превентивных мероприятий по профилактике девиантного поведения [1]. Целевыми ориентирами этих мероприятий являются: семья, социально-экономические условия жизни, законодательство, формирование/воспитание социально одобряемых идеологических установок и ценностных ориентаций (здоровый образ жизни, толерантность, патриотизм и т. д.), организация занятости подростков в соответствии с их интересами. В целом сами мероприятия носят социальный и педагогический характер. Идентичные мероприятия предлагаются и другими авторами (Д. Ж. Будаева, Н. С. Антонова, О. В. Погожева, С. М. Плиев) [7; 2]. В данных классификациях подспудно допускается, что полноценные социальные условия жизни подростка и соответствующее педагогическое сопровождение являются залогом отсутствия девиаций. Фактически данные мероприятия представляют собой различные формы социального контроля. Обращает на себя внимание отсутствие в этом перечне психологической работы с личностью подростка, его идентичностью, внутренними конфликтами, чувством неполноценности, тревожными состояниями.
Вместе с тем ряд авторов [6; 8; 9] основной акцент в профилактике девиантного поведения подростков делает на социально-психологических методах, а именно: тренингах резистентности, ассертивности, коммуникативной компетентности, личностного роста; индивидуальном психологическом консультировании и коучинге. Разработчики профилактических программ все чаще используют арт-терапевтические средства, отмечая их релевантность возрастным особенностям подростков. При этом обращение к данным средствам не всегда предваряется должной теоретической рефлексией механизмов формирования девиантного поведения. Следствием этого является ситуация, когда программа профилактических мероприятий и конкретное содержание соответствующего тренинга разрабатываются в отрыве от теоретической рефлексии исходных концептов. Подобный схизис выражается и в том, что будто бы независимо друг от друга существуют публикации, посвященные теоретическому анализу механизмов, факторов девиантного поведения, и публикации, в которых описывается конкретное содержание профилактической деятельности: первые не психотехничны, а вторые имеют слабое теоретическое обоснование.
В литературе выделяется несколько подходов к объяснению причин возникновения девиаций.
-
1. Биологический подход, основателем которого является Ч. Ломбразо. Основная идея заключается в теории врожденного преступника, девиации которого связаны с различными конституционными, антропометрическими, генетическими, хромосомными особенностями индивида. В настоящее время общепризнана точка зрения, согласно которой биологические факторы если и влияют на возникновение девиаций, то лишь опосредованным образом, через социальные условия существования индивида.
-
2. Социологический подход, в рамках которого девиации есть результат аномалий в структуре общества и общественных отношениях (социальная несправедливость, неравенство возможностей, конфликты между социальными группами и классами, стигматизация, социальная дестабилизация и ослабление социального контроля, неблагоприятная экономическая ситуация). В рамках этого подхода носителем девиаций выступает коллективный субъект, а причинами — его различные аномалии. Так, Я. И. Гилинский отмечает: «Как всякое социальное явление (процесс) девиантность не может
-
3. Психологический подход. Здесь носителем девиаций выступает личность. Предполагается, что аномалии общества преломляются в структуре личности и опосредованно ею определяют поведение социальных индивидов. Можно выделить два варианта психологического подхода к девиациям: 1) индивидуальнотипологический; 2) психоаналитический. В рамках первого подразумевается, что существуют некие свойства личности, которые при соответствующих социальных обстоятельствах могут провоцировать девиантное поведение подростков. Как показал в своем исследовании Н. В. Бондаренко, «у подростков с патологическим криминальным стереотипом поведения обнаруживается низкая психологическая и личностная толерантность к социальным факторам, когда банальные внешние воздействия оказываются провоцирующими, актуализируя дефектность конституциональных механизмов компенсации и адаптации, что, в свою очередь, приводит к выраженной и устойчивой личностной и поведенческой деструкции в диапазоне психопатии конституционально-континуального пространства» [3, с. 21]. Например, эпилептоидный характер является наиболее сильным психотипическим фактором, провоцирующим девиантное поведение подростков. К соответствующим свойствам относятся также повышенный уровень личностной тревожности и агрессивности, сниженный уровень эмпатии, психопатические особенности личности и др.
быть объяснена „из себя самой“, а лишь с позиции социального целого — общества, чью субстанцию образует совокупность общественных отношений» [10, с. 78]. В конечном счете эти аномалии состоят либо в различных формах социальной фрустрации (неравенство возможностей для различных социальных групп (Р. Клауорд, Л. Оулиан [11; 12])), отсутствии условий и институциональных средств для достижения декларируемых обществом целей/ценностей/устремлений (Р. Мертон [13]), социальной дезорганизации [14], социальном отчуждении (Т. В. Шипунова [15], Э. Карри [16]), либо в стигматизации (Ф. Танненбаум [17], Г. Беккер [18]) лиц, единожды совершивших противоправное действие, либо в снижении социального контроля над индивидами и социальными группами (Э. Дюркгейм [19], П. Штомпка [20]). Девиация возникает в результате того, что социальный индивид сталкивается с фрустрацией своих устремлений, стигматизацией или оказывается вне сферы социального контроля.
Психоаналитический подход представлен такими авторами, как З. Фрейд, А. Адлер, К. Хорни, Э. Фромм. С позиции этого подхода мотивационной основой девиантного поведения являются деструктивные бессознательные тенденции личности. Если представители классического психоанализа считали эти деструктивные тенденции естественными динамическими силами личности, то для социального или гуманистического психоанализа они следствие фрустрации базовых потребностей личности. Отметим, что данные авторы не занимались собственно проблемой девиантности, она лишь затрагивалась ими в отдельных аспектах при анализе невротических механизмов личности. В качестве основных профилактических мер девиантного поведения выступают методы психокоррекции невротических состояний. И здесь в литературе перечисляются почти все психологические методы работы с личностью. При этом далеко не всегда обосновывается применение того или иного метода в контексте понимания механизмов возникновения девиантного поведения.
По нашему мнению, наиболее перспективен в психологическом подходе к девиациям гуманистический психоанализ Э. Фромма [21]. С его точки зрения, деструктивные тенденции личности, лежащие в основе девиаций, представляются следствием фрустрации базовых экзистенциальных потребностей человека, а сама девиация рассматривается как форма компенсации неудовлетворенности этих потребностей. Теоретическая модель Э. Фромма в чем-то имеет сходство с социологическими теориями девиации, понимающими последнюю как результат социальной фрустрации. Разница в том, что социологи говорят об объективных социальных условиях жизни того или иного коллективного субъекта и изменении общественной системы (что предполагает применение социальных методов решения проблемы). Так, Я. И. Глинский подчеркивает: «…важным девиантогенным фактором служит противоречие („напряжение“, strain) между потребностями людей и реальными возможностями (шансами) их удовлетворения, зависящими, прежде вcего, от места индивида или группы в социальной структуре общества, степень социально-экономической дифференциации и неравенства» [10, с. 82]. В свою очередь Э. Фромм предлагает адресную психологическую помощь конкретной личности в нахождении возможности для преодоления фрустрации и удовлетворения базовых потребностей через работу с самосознанием. В последнем случае вводится некое теоретическое допущение, что человек способен самостоятельно преодолевать фрустрирующие обстоятельства, становиться субъектом своей жизни и находить конструктивные средства удовлетворения экзистенциальных потребностей. Пусть человек не может изменить социальную систему, в которой находится, но он может изменить себя и свою жизнь.
Согласно теории Э. Фромма [21] существуют пять экзистенциальных потребностей/противоречий/задач человеческого существования.
-
1. Приобщенность в противовес нарциссизму. Деструктивными вариантами удовлетворения этой потребности являются либо подчинение/отождествле-ние себя с группой, организацией или религией, либо,
-
2. Преодоление и созидательность в противовес разрушительности. Потребность в преодолении себя — это желание подняться над пассивным и случайным существованием, свойственным животному миру, обрести целеустремленность и свободу, стать субъектом своей жизни. Данная потребность может удовлетворяться продуктивно через созидание, творческую активность. В ситуациях, когда это невозможно, — через уничтожение жизни, страсть к разрушению.
-
3. Укорененность и братство в противовес кровосмешению. Потребность в укорененности — потребность в обнаружении своих корней, желание в буквальном смысле «укорениться» в этом мире. Возникает в детстве — в момент разрыва биологической связи с матерью, сопровождает человека до конца жизни. Продуктивное удовлетворение данной потребности проявляется в чувстве стабильности, сходном с ощущением безопасности, переживаемым в детстве. Фрустрация указанной потребности выражается в сохранении симбиотической связи с родителями и социальными институтами, символизирующими родительский контроль, однако в такой попытке удовлетворения потребности в корнях человек не способен к личностному развитию, он становится инфантильным.
-
4. Чувство тождественности и индивидуальность в противоположность стадному конформизму. Потребность в самоидентичности — осознание себя как отдельной сущности, самоотождествление. Удовлетворение этой потребности позволяет человеку чувствовать себя хозяином собственной жизни, свободной и независимой, целостной личностью. Если рассматриваемая потребность фрустрирована, человек склонен к конформизму; постоянное копирование чужого поведения, следование чужим указаниям не позволяют достичь чувства самоидентичности.
-
5. Потребность в системе ценностей — стремление человека к освоению мира и выработке собственной системы ценностей, мировоззрения, опоры в виде системы взглядов. Это система ориентации, позволяющая воспринимать и постигать реальность. В случае неудовлетворенности данной потребности человек склонен постоянно оказываться в тупике, не способен целенаправленно действовать и рационально взаимодействовать с миром.
наоборот, господство и власть над другими. В обоих случаях имеет место симбиоз, который всегда порождает враждебность (к себе или миру) и приводит к разрушению целостности личности. Единственная конструктивная форма удовлетворения этой потребности — любовь, в которой диалектически соединяются единство и уникальность. Одним из вариантов возможной девиации, связанной с фрустрацией этой потребности, является так называемый психологический комплекс экстремиста [22].
Психологическая работа по профилактике девиантного поведения строится на принципах знаковосимволической и диалогической опосредованности самосознания человека [23]. Мы исходим из того, что фрустрированные потребности недоступны подростку в опыте непосредственной интроспекции. В связи с этим дефрустрирация экзистенциальных потребностей предполагает следующие психотехнические действия:
-
1. Знаково-символическое замещение, выражение и отреагирование фрустрационного состояния, вызванного психотравмирующими событиями жизни и блокированием условий удовлетворения той или иной экзистенциальной потребности, и его опосредованное переживание.
-
2. Осмысление содержания травматического Я-опыта и того, как он воплощается в конкретных формах отношений с миром. На этом этапе подростки персонифицируют и осознают фрустрированную потребность посредством построения нарратива. Это осуществляется путем идентификации себя с символическим протагонистом, который является героем повествования.
-
3. Разотождествление себя с символическим персонажем и рефлексия образа Я в реальных жизненных контекстах. На этом этапе подростки устанавливают параллели между историей символического персонажа и собственными жизненными событиями, а также осознают конкретные девиантные формы компенсации фрустрированных экзистенциальных потребностей.
-
4. Поиск сохранных личностных ресурсов и освоение форм созидательного самовыражения в совместной творческой деятельности. Подростки получают новый опыт позитивного восприятия себя и собственной идеальной представленности в сознании других. Вследствие этого происходит амплификация образа Я.
Важно отметить, что эта работа позволяет подростку не только осознать свои фрустрированные экзистенциальные потребности и получить опыт освоения конструктивных форм их удовлетворения, но и дестиг-матизировать образ самого себя в контексте собственного самосознания. Это является необходимой психологической предпосылкой преодоления социальной отчужденности и дальнейшей ресоциализации. Причем достижение описанного эффекта возможно только в рамках психологической работы с самосознанием девиантного подростка, которое, как правило, остается в тени для традиционной социально-педагогической профилактики.
В свете описанного выше механизма дефрустрации базовых потребностей и учета специфики подросткового возраста наиболее действенным и релевантным методом профилактики девиантного поведения служит изо-терапевтический тренинг. Его центральным звеном является воображение, посред- ством которого подростки овладевают собственной эмоциональной жизнью: «Фантазия — это осуществление желания, корректив к неудовлетворяющей действительности. В фантазии он (подросток. — Авт.) находит живое средство направления эмоциональной жизни, овладение ею» [24, с. 217–218]. Важная особенность применения этого метода — его проективный потенциал, экологичность и индирективность по отношению к личности девиантного подростка, что позволяет обойти его психологические сопротивления, минимизировать проявления тревоги, негативизма и оборонительной агрессии.
Таким образом, большинство авторов, занимающихся проблемой подростковой девиации и делинквентности, единодушны в том, что основным методом ее решения является коррекционно-профилактическая работа. В литературе наряду с социально-педагогическими методами коррекционно-профилактической работы выделяются и психологические. При этом обращение к конкретным методам и средствам не всегда предваряется должной теоретической рефлексией механизмов формирования девиантного поведения. С нашей точки зрения, перспективным для теоретического понимания механизмов девиантного поведения является гуманистический психоанализ Э. Фромма, а наиболее подходящим для подросткового возраста методом профилактики — изо-терапевтический тренинг.
Материалы и методы
В исследовании приняли участие 30 подростков — старшеклассников средней общеобразовательной школы № 80 г. Омска, имеющие проявления девиантного поведения: агрессивность и аутоагрессию. Выборка формировалась на основании данных, полученных в ходе констатирующего диагностического среза, далее была сформирована группа из 20 человек. Применялись следующие методики: Диагностический опросник для выявления склонности к различным формам девиантного поведения (ДАП-П) [25], Шкала тревоги Спилбергера-Ханина [26], Агрессивное поведение (Е. П. Ильин, П. А. Ковалев) *.
Результаты и обсуждение
Содержание опытно-экспериментальной работы и изо-терапевтического тренинга. Начальным этапом нашей работы было проведение психодиагностики подростков на наличие склонности к девиантному поведению с помощью диагностических опросников. После этого с 20 подростками с девиантными проявлениями был проведен изо-терапевтический тренинг коррекции девиантного поведения. Структура тренинга представлена в табл. 1.
Логика построения и реализации программы была следующей: знакомство, налаживание доверительных
Таблица 1. Структура и содержание тренинговых занятий (Тable 1. Structure and content of training sessions )
|
Название занятия |
Цель |
Упражнения |
Время проведения |
|
Знакомство |
Знакомство с участниками тренинга сбор психологического анамнеза |
|
2 часа (120 мин.) |
|
Проработка фрустриро-ванных потребностей |
Выражение и осознание фрустриро-ванных потребностей в совместной изобразительной деятельности |
|
2 часа (120 мин.) |
|
Преодоление тревоги |
Формирование умения преодолевать тревогу и актуализация ресурсного состояния |
|
2 часа (120 мин.) |
|
Работа с агрессией |
Идентификация аффективных и поведенческих проявлений агрессии, осознание мотивов агрессивного поведения |
|
2 часа (120 мин.) |
|
Коррекция самооценки |
Помощь в выстраивании адекватной самооценки |
|
2 часа (120 мин.) |
отношений между тренером и группой; проективная диагностика и символическое опосредование фрустри-рованных потребностей; нивелирование тревожности в целях снижения страха неуспеха; проработка агрессии как психологической защиты; поиск сохранных личностных ресурсов и освоение форм созидательного самовыражения в совместной творческой деятельности.
Изо-терапевтические тренинговые упражнения
-
1. Метафорический автопортрет. Подросткам предлагалось сначала письменно продолжить следующие фразы: «1. Если бы я был(а) растением, то я был(а) бы… 2. Если бы я был(а) посудой, я был(а) бы… 3. Если бы я был(а) оружием, я был(а) бы… 4. Если бы я был(а) украшением, я был(а) бы…». После этого необходимо было нарисовать цветными карандашами каждый из четырех метафорических образов. Обсуждение метафорического содержания автопортретов позволило выявить ранние психологические травмы подростка (включая способы их компенсации) и актуальную социальную ситуацию его развития, степень реализованности или фрустрированности его экзистенциальных потребностей и степень сохранности способности самого подростка удовлетворять эти потребности.
-
2. Групповое раскрашивание матриц-фракталов с последующим сочинением проективных историй. Формировались группы по 3–4 человека, далее им на выбор предлагались матрицы для раскрашивания. Ближе к завершению работы участникам под руководством тренера предложили обменяться ассоциациями по поводу образа-персонажа, а затем вместе сочинить небольшую историю. История должна описывать персонажа на картинке, его жизненную ситуацию, стремления, действия, чувства. После презентации работ и совместного осмысления образов-персонажей в круге участники делились впечатлениями о своих переживаниях и трудностях, испытанных в ходе работы, сравнивали свою жизненную ситуацию с сюжетом вымышленной истории.
-
3. Актуализация тревоги через рисование каракулей. После рассмотрения понятий тревоги и тревожности необходимо было, чтобы каждый участник вспомнил ситуацию, в которой испытывал тревогу или по поводу которой тревога все еще актуальна. Далее участникам дали листы бумаги, цветные карандаши, предложили сконцентрироваться на чувстве тревоги и карандашом любого цвета, с закрытыми глазами, в течение двух минут, хаотично (не прибегая к сознательному контролю при направлении движения руки) водить карандашом по бумаге. Тренер попросил участников открыть глаза и рассмотреть полученные каракули. Задача — найти в них образ испытываемой тревоги и при необходимости прорисовать этот образ, добавляя к нему новые детали или усиливая уже имеющиеся элементы. Затем авторы кратко выступили с комментариями о чувствах и ассоциациях, которые вызвали рисунки.
-
4. Пальчиковое рисование. Такая техника рисования, в отличие от рисования кистью, позволяет участникам почувствовать себя еще свободнее, расслабиться, снять эмоциональное напряжение и тревожность, выразить деструктивные импульсы в социально одобряемой форме. Участникам предлагалось вспомнить радостное событие, эмоцию счастья и постараться актуализировать их, а затем дорисовать получившиеся в предыдущем упражнении каракули пальцами так, чтобы рисунок отражал не уныние и тревогу, а радостное переживание, светлое, ресурсное состояние.
-
5. Твое настроение. Позволяет актуализировать гнев и агрессию, вызванные длительной фрустрацией базовых экзистенциальных потребностей. Сначала подростки определяли преобладающее эмоциональное состояние (устойчивый эмоциональный фон их жизнедеятельности) и трудности совладания с ним. Далее выполняли упражнение «Рисуем агрессию» — вспоминали ситуации, в которых испытывали самую сильную злость, концентрировались на этом чувстве и зарисовывали образ собственной агрессии. В качестве заключительного упражнения использовалась
-
6. «Я-реальное, Я-идеальное». После мини-лекции о «Я-концепции» и самооценке в подростковом возрасте участникам тренинга предлагалось визуализировать (с помощью карандашей и красок) свой актуальный образ и тот образ «Я», который считается идеальным (с точки зрения успешного и социального благополучного развития собственной личности). После завершения рисунков проводился их рефлексивный анализ на предмет оценочного отношения к себе; притязаний на социальные достижения и их соответствие реальным способностям и возможностям; конструктивных способов саморазвития и удовлетворения экзистенциальных потребностей.
-
7. «Солнышко». Подросткам предлагалось нарисовать солнышко с пятью лучами и назвать его своим именем. После этого необходимо было на его лучах написать свои сильные стороны, положительные качества, умения, достижения. Далее рисунки передавались по кругу, каждый участник дорисовывал по лучу и дописывал еще одно положительное качество автора рисунка. По завершении упражнения каждый зачитывал получившуюся характеристику, благодарил других за положительную обратную связь и делился впечатлениями о своем собирательном образе.
техника визуализации «Внутренний луч». Данное упражнение направлено на преодоление усталости, релаксацию, снятие внутренних зажимов и стабилизацию эмоционального состояния.
Усилия ведущего тренинга важно сосредоточить на следующих психотехнических «мишенях»: конструктивном удовлетворении потребности подростка в творческой и просоциальной деятельности и выстраивании качественных социальных связей; рефлексивной проработке сложившейся концепции себя и соответствующих ей дисфункциональных моделей поведения, компенсирующих фрустриро-ванную потребность; удовлетворении потребности в самоидентичности.
После цикла тренинговых занятий у подростков наблюдались следующие положительные изменения:
-
— рисунки участников с каждым занятием становились более детальными, затрачивалось больше времени для их завершения, что свидетельствовало о нарастающей вовлеченности в тренинговый процесс;
-
— значительно снизился уровень агрессивности участников во взаимодействии: подростки спокойно слушали друг друга, стали менее раздражительными, сократились вербальная агрессия, употребление нецензурной лексики;
-
— подростки стали более уважительно, внимательно слушать чужие рассказы, старались эмоционально поддерживать друг друга, проявляли эмпатию;
-
— значительно улучшилось качество самореф-лексии, отслеживания и вербализации собственного эмоционального состояния (с каждой встречей про-
Таблица 2. Показатели девиантного поведения подростков в экспериментальной и контрольной группах (Table 2. Indices of juvenile deviant behavior in the experimental and the control groups )
Методика
Наименование шкалы
x±σ
Ткр
р
до
после
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ДАП-П*
Аддиктивное поведение
5,95±1,8
5,7±1,5
6,75±2,0
4,4±2,4
–2,28
–2,13
0,020
0,03
Делинквентное поведение
4,85±1,8
4,8±1,8
6,5±2,3
4,9±1,9
–3,55
–0,18
0,000
0,85
Суицидальный риск
3,7±3,1
3,4±2,7
4,65±3,3
3±2,4
–2,95
–1,63
0,003
0,10
Девиантное поведение
6,05±1,8
5,4±1,6
7,2±2,1
4,7±2,0
–3,09
–2,07
0,002
0,03
Шкала тревоги Спилбергера-Ханина
Реактивная тревожность
44,3±10,9
38,2±5,0
39,8±10,3
42,6±10,3
–2,77
–0,66
0,005
0,50
Личностная тревожность
45,1±11,1
48,3±9,2
41,1±11,6
49,3±9,7
–3,32
–0,65
0,001
0,51
Агрессивное поведение (Е. П. Ильин, П. А. Ковалев)
Прямая вербальная агрессия
5,35±2,0
5,2±2,4
4,75±2,6
5,9±2,2
–1,90
–1,20
0,050
0,22
Косвенная вербальная агрессия
4,6±2,2
3,2±2,1
3,6±2,5
4,8±2,0
–2,13
2,38
0,030
0,01
Косвенная физическая агрессия
4,4±2,0
3,8±1,8
3,8±3,0
4,4±1,6
–0,94
–0,84
0,340
0,39
Прямая физическая агрессия
5,25±2,5
3,8±2,0
4,65±2,1
4,9±1,5
–1,71
–2,23
0,080
0,02
Примечания:* высокие значения по шкалам методики ДАП-П свидетельствуют о низком уровне девиации, а низкие — о высоком уровне (опросник содержит обратные шкалы); ЭГ — экспериментальная группа; КГ — контрольная группа.
говаривание своих переживаний становилось более подробным и персонифицированным);
-
— участники с повышенным уровнем тревожности на тренингах постепенно стали вести себя более раскрепощенно и спокойно.
Оценка выраженности девиантных тенденций у подростков. После завершения тренинга была проведена повторная психодиагностика показателей группы. Результаты, полученные до и после изо-терапевтического тренинга, были подвержены сравнительному анализу с применением методов статистического анализа данных (Т-критерий Вилкоксона, U-критерий Манна-Уитни). Оценка эффективности коррекционного потенциала изо-терапевтического тренинга осуществлялась путем сравнительного анализа выраженности девиантного поведения до и после тренинга в экспериментальной и контрольной группах (табл. 2).
Показатели шкал «Аддиктивное поведение», «Делинквентное поведение», «Суицидальный риск», «Девиантное поведение» статистически значимо возросли, что свидетельствует о снижении уровня выраженности поведенческих и эмоциональных паттернов девиантности у подростков. Показатели шкал «Реактивная тревожность», «Личностная тревожность», «Прямая вербальная агрессия», «Косвенная вербальная агрессия» уменьшились. Это свидетельствует о том, что после участия в изо-терапевтическом тренинге у подростков снизился уровень тревожности, агрессивности, а также выраженности девиантных тенденций в поведении. Безусловно, устойчивость этих изменений во многом будет зависеть от социальной среды и значимого социального окружения подростков. Вместе с тем нельзя недооценивать тот конструктивный опыт самовыражения и самопонимания, который приобрели подростки в условиях тренинга.
Неблагоприятные изменения в контрольной группе наблюдаются по таким шкалам, как «Аддиктивное поведение», «Девиантное поведение» (общий показа- тель склонности к девиациям), «Косвенная вербальная агрессия» (склонность к обвинениям, угрозам и жалобам) и «Прямая физическая агрессия» (склонность к нападению и намеренному причинению физической боли). Результаты свидетельствуют о сохранении и определенном усилении негативных тенденций в поведении подростков контрольной группы. Возможно, повышение уровня девиантности отчасти является следствием влияния социального фона (и событий, которые могли произойти между предварительным и окончательным измерениями), а отчасти вызвано тем, что подростки, зная о проводимом тренинге и желая участвовать в нем, не были включены в него. В итоге возникла ситуация социального отчуждения, что усилило тенденции к девиации. Для нивелирования тенденций впоследствии с этой группой подростков был проведен отдельный тренинг.
Для сравнения эмпирических данных, полученных в экспериментальной и контрольной группах до и после проведения тренинга, был применен непараметрический статистический U-критерий Манна–Уитни (табл. 3).
Данные результаты свидетельствуют о том, что подростки, участвовавшие в тренинге, стали менее склонны к девиантному поведению и имеют более низкий уровень личностной тревожности по сравнению с подростками, не участвовавшими в тренинге.
Таким образом, разработанный нами тренинг, основанный на гуманистическом психоанализе Э. Фромма, является перспективным психологическим средством работы с девиантным поведением подростков.
Выводы
-
1. С группой подростков был проведен изо-терапевтический тренинг коррекции девиантного поведения, в ходе которого с его участниками произошли такие положительные изменения, как снижение уровня агрессивности по отношению друг к другу; формирование взаимного уважительного отношения; усиление эмпатических способностей; повышение способности к саморефлексии,
-
2. В ходе оценки эффективности тренинга (путем сравнительного анализа выраженности показателей девиантного поведения до и после тренинга) было установлено, что изо-терапевтический тренинг способствовал
-
3. Исследование показало, что изо-терапия позволяет использовать рисование как гибкий, экологичный и недирективный инструмент групповой коррекции, способствующий символическому выражению, распознанию девиантных форм компенсации фрустриро-ванных экзистенциальных потребностей, их осмыслению и удовлетворению. В рамках изо-терапевтического тренинга можно моделировать условия, необходимые для укрепления творческого и личностного потенциала подростка, предоставлять возможность самореализации в творческой деятельности, что будет способствовать ослаблению эмоциональных и поведенческих проявлений девиации, содействовать более успешной социальнопсихологической адаптации.
Таблица 3. Различия показателей девиантного поведения в экспериментальной и контрольной группах до и после проведения изо-терапевтического тренинга (U-критерий Манна–Уитни)
(Тable 3. Differences in indices of deviant behavior in the experimental and control groups prior and after art-therapy (Mann–Whitney U-test) )
снижению уровня девиантного поведения (и связанных с ним рисков), реактивной и личностной тревожности, а также прямой и косвенной вербальной агрессии подростков.
Перспективы. Данное исследование может быть продолжено в ключе выявления и коррекции имплицитных жизненных стратегий подростков, склонных к девиантному поведению. Дальнейшая разработка психотехнического инструментария может быть направлена на составление программы тренинга по формированию конструктивных паттернов речевого и социальноролевого поведения, просоциальных и экологичных форм межличностного взаимодействия.
Список литературы Коррекция и профилактика девиантного поведения подростков
- Шипунова Т. В. Преступность несовершеннолетних и превентивные стратегии // Журнал социологии и социальной антропологии. 2002. Т. 5, № 4. С. 112–128.
- Погожева О. В., Плиев С. М. Профилактика девиантного поведения несовершеннолетних на территории Ставропольского края: современный правовой и институциональный анализ // Гуманитарные и юридические исследования. 2021. № 1. С. 168–173.
- Бондаренко Н. В. Личностно-характерологическая изменчивость подростков с криминальным стереотипом поведения : автореф. дис. ... канд. психол. наук. Ставрополь, 2005. 22 с.
- Хагуров Т. А. Девиации, социальный контроль и риск взросления в современной России // Вестник института социологии. 2013. № 7. С. 153–181.
- Нелюбин Н. И., Гапоненко В. В. Эталоны личностной идентификации современных подростков // Психолого-педагогические исследования в Сибири : сб. мат-лов. Омск, 2018. С. 56–59.
- Беличева С. А. Основы превентивной психологии. М., 1994. 224 с.
- Будаева Д. Ж., Антонова Н. С. Социальная работа с несовершеннолетними правонарушителями (на примере Республики Бурятия) // Социальная безопасность и социальная защита населения в современных условиях : мат-лы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 30-летию социальной работы в России / отв. ред. Н. С. Антонова. Улан-Удэ, 2021. С. 61–65.
- Франц С. В. Условия и формы профилактики отклоняющегося поведения подростков // Социокультурная среда и ее развитие в условиях глобализации современного общества : мат-лы V междунар. социально-педагогических чтений им. Б. И. Лившица. Екатеринбург, 2013. С. 59–65.
- Чухрова М. Г., Савушкина О. И. Формирование культуры осознанности как основа профилактики девиантного поведения // Профилактика девиантного поведения : мат-лы II междунар. науч.-практ. конф. / под науч. ред. М. Г. Чухровой. Новосибирск, 2020. С. 33–40.
- Гилинский Я. И. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других «отклонений». СПб., 2004. 520 с.
- Shmalleger F. Criminology today: an integrative introduction. 2nd ed. New Jersey, 1999. 293 р.
- Клауорд Р. А., Оулин Л. Е. Дифференциация субкультуры // Социология преступности. Современные буржуазные теории : сб. статей / пер. с англ. А. С. Никифорова и А. М. Яковлева. М., 1966. С. 334–354.
- Мертон Р. Социальная структура и аномия // Социологические исследования. 1992. № 2. С. 118–124.
- Harre R. The ethogenetic approach: Theory and practice. Experimenal social psychology. 1977. Vol. 10. Pр. 283–314.
- Шипунова Т. В. Социальное исключение, отчуждение, насилие и агрессия как механизмы воспроизводства девиантности // Журнал социологии и социальной антропологии. 2005. Т. 8, № 4. С. 120–136.
- Currie E. Crime and market society: lessons from the United States / Paul Walton and Jock Young (eds.). The new criminology revisited. London, 1998. Pр. 130–142.
- Tannenbaum F. Crime and the Community. N.-Y., 1938.
- Becker H. Outsiders: studies in sociology of deviance. N.-Y., 1963.
- Дюркгейм Э. Самоубийство: социологический этюд / пер. с фр. с сокр. ; под ред. В. А. Базарова. М., 1994. 399 с.
- Штомпка П. Социология. Анализ современного общества / пер. с польск. С. М. Червонной. М., 2005. 696 с.
- Фромм Э. Здоровое общество. М., 2015. 448 с.
- Маренко В. А., Мильчарек Т. П., Мильчарек Н. А. Диагностика и моделирование экстремистской направленности личности // Труды института системного анализа РАН. М., 2021. С. 24–35. https://doi.org/ 10.14357/20790279210303.
- Кубарев В. С. Механизм осознания жизненных смыслов в свете культурно-деятельностного подхода // Сибирский психологический журнал. 2021. № 81. С. 28–51. https://doi.org/ 10.17223/17267081/81/2.
- Выготский Л. С. Собрание сочинений : в 6 т. М., 1984. Т. 4 : Детская психология / под ред. Д. Б. Эльконина. 432 с.
- Федосенко Е. В. Психологическое сопровождение подростков: система работы, диагностика, тренинги : монография. СПб., 2008. 192 с.
- Диагностика эмоционально-нравственного развития / ред. и сост. И. Б. Дерманова. СПб., 2002. С. 124–126.