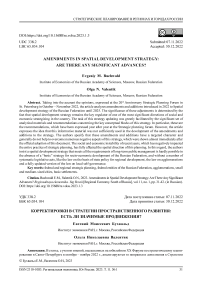Корректировки в стратегии пространственного развития: есть ли значимые продвижения?
Автор: Бухвальд Евгений Моисеевич, Валентик Ольга Николаевна
Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu
Статья в выпуске: 1 т.11, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье, с учетом мнений, высказанных на юбилейном ХХ Форуме по стратегическому планированию в Санкт-Петербурге в октябре - ноябре 2022 г., анализируются те поправки и дополнения к Стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2025 г., которые были внесены в 2022 году. Значимость внесенных корректировок определяется тем, что Стратегия пространственного развития по-прежнему остается ключевым регулятором одного из наиболее значимых направлений социально-экономического стратегирования в стране. Решение задачи обновления данной стратегии во многом облегчалось наличием значительного блока аналитических материалов и рекомендаций по ключевым блокам Стратегии пространственного развития. В том числе это рекомендации, год за годом высказывавшиеся на самом Форуме по стратегическому планированию. Однако в статье присутсует мнение, что этот содержательный материал не был в достаточной мере использован при разработке названных поправок и дополнений к стратегии. Авторами отмечается, что данные поправки и дополнения носят сугубо «точечный» характер и в целом не преодолевают тех отрицательных моментов стратегии, которые констатировались практически сразу после официального принятия документа. Социально-экономическая нестабильность ряда последних лет, негативно сказавшаяся на всей практике стратегического планирования, в полной мере затронула и пространственный вектор этого планирования. В этой связи авторы остаются при мнении, что подготовка Стратегии пространственного развития, отвечающей всем требованиям долгосрочного государственного управления, едва ли возможна в отсутствие «базовой» стратегии социально-экономического развития Российской Федерации. Необходимо также принятие целого ряда системных законодательных актов, например закона по основам государственной политики регионального развития, закона об агломерациях, а также полностью обновленной версии закона по местному самоуправлению.
Федеральное и региональное стратегическое планирование, субъекты российской федерации, агломерации, малые и средние города, опорные поселения
Короткий адрес: https://sciup.org/149142391
IDR: 149142391 | УДК: 338.2 | DOI: 10.15688/re.volsu.2023.1.3
Текст научной статьи Корректировки в стратегии пространственного развития: есть ли значимые продвижения?
DOI:
Цитирование. Бухвальд Е. М., Валентик О. Н., 2023. Корректировки в стратегии пространственного развития: есть ли значимые продвижения? // Региональная экономика. Юг России. Т. 11, № 1. С. 31–42. DOI: 10.15688/
Постановка проблемы
Одним из факторов действенности практики стратегического планирования выступает ее способность к гибкой оперативной адаптации важнейших плановых документов и их основных положений к быстро меняющимся политическим, экономическим, социальным и иным условиям реализации подобных планов. Это так же верно, как и то, что такие планы не могут быть и объектом скоротечных корректировок, что не позволяло бы в полной мере осознать стратегические установки планов и последовательно добиваться их реализации. Соблюдение баланса между актуализацией плановых документов и устойчивостью их стратегических установок и целевых ориентиров составляет, по-видимому, одну из основных сложностей в работе практикующих стратегов всех уровней сложности, которые еще более усугубляются нынешней обстановкой турбулентности в мировой и в отечественной экономике. Это подтвердили и выступления участников ХХ Форума по стратегическому планированию, который работал в Санкт-Петербурге 31 октября – 1 ноября 2022 г. с ключевой темой «Стратегии эпохи турбулентности».
Проблема названного выше баланса гибкости и стабильности стратегических планов, а также путей его достижения в практике стратегического планирования пока еще не нашла отражение в соответствующем круге нормативно-правовых документов [Федеральный закон № 172-ФЗ ... , 2014 г.; Указ Президента РФ № 633 ... , 2021; Распоряжение Правительства РФ № 3227-р ... , 2019]. Нет решения этой проблемы и в методических разработках, отражающих специфику стратегического планирования в условиях турбулентности, неопределенности и неустойчивости, в условиях и трендах социально-экономического развития страны и ее регионов. Более того, на Форуме высказывалась мысль, что в сложившихся условиях, не отказываясь от идеи стратегического планирования как таковой, основной акцент в сфере государственного и муниципального управления следует временно перенести на руководящие документы средне- и краткосрочного характера.
Подобная проблема в полной мере обозначилась и в отношении Стратегии пространственного развития (далее – СПР) [Распоряжение Правительства РФ № 207-р ... , 2022], предложения о необходимости существенной переработки которой появились практически сразу же после ее принятия [Бухвальд, 2016; Минакир, 2016; Симонова, Ефремова, 2016; Щитинский, 2015]. Обобщение этих предложений и их аргументации (чего не хватает в СПР и что в ней явно излишнее) могло бы составить предмет не одной научной статьи. Еще пару лет назад мы были готовы согласиться с теми авторами, которые тогда полагали нецелесообразным незамедлительно обратиться к обновлению СПР, но сейчас ситуация качественно изменилась.
СПР и новый «фон» ее реализации
Ранее вполне убедительными виделись два аргумента в пользу точки зрения о нецелесообразности торопиться с обновлением СПР. Во-первых, полагалось, что необходимо дальнейшее накопление опыта пространственного регулирования и стратегирования как основы обновления СПР, и, во-вторых, отмечалось, что важно утверждение «базовой» стратегии социально-экономического развития страны как обязательного источника ключевых задач в сфере пространственного регулирования и стратегирования. Однако на данный момент эти аргументы заметно утратили свою убедительность.
Так, количество практически реализованных новаций социально-экономической политики государства, транслированных именно из СПР, очень невелико, и говорить о накоплении в последние годы значимого опыта в сфере пространственного стратегирования достаточно сложно. «Базовой» стратегии также пока нет, как нет и полной убежденности в том, что этот документ будет принят в видимой перспективе. Напротив, в последние несколько лет для российской экономики обозначились дополнительные факторы неопределенности, нестабильности («турбулентности»), реальных вызовов и угроз. В этих условиях вопрос о позиционировании актуальной, системно проработанной СПР как документа стратегического планирования приобретает особое самостоятельное значение. На Форуме 2022 г. не было развернутого обсуждения СПР и ее дальнейшей судьбы, но обойти этот вопрос совсем было невозможно. Все сделанные по этому поводу комментарии прозвучали хотя и весьма критично, но вполне конструктивно.
С точки зрения теории пространственного развития экономики и практики его централизованного регулирования СПР должна была решить такие важные задачи, как: сформировать систему понятий, обеспечивающих разграничение и логическую связь категорий, характерных для сферы пространственного развития экономики и ее централизованного регулирования; закрепить систему институтов и инструментов, действующих для достижения целей пространственного регулирования и стратегирования; разграничить цели и задачи пространственного регулирования в экономике между действующими уровнями публичной (государственной и муниципальной) власти, обеспечив их согласованность; определить систему мер пространственного регулиро- вания в экономике как «нишу» для использования различных форм государственно-частного и муниципального партнерства.
О решении этих задач относительно СПР, даже с учетом внесенных в нее корректировок (последние и наиболее существенные – в конце июня 2022 г.) [Распоряжение Правительства РФ № 1704-р ... , 2022] можно говорить лишь в ограниченной мере. Откровенную путаницу в СПР с исходной точкой управления пространственной структурой экономики и политикой регионального развития эксперты отмечали уже не раз [Бухвальд, 2016]. Здесь позитивных уточнений дано так и не было.
Нельзя также сказать, что в СПР теперь удалось закрепить согласованную систему институтов и инструментов, действующих для достижения целей пространственного регулирования и стратегирования. Институционально-инструментальный аппарат СПР, как и ранее, остается беден и явно неполон [Симонова, Ефремова, 2016]. Но главное в том, что эти институты и инструменты политики пространственного регулирования не получили пока четкой ориентации на решение конкретных задач пространственного регулирования, включая и такую важную из них, как сокращение социально-экономической дифференциации регионов, а также дифференциации территорий на субрегиональном уровне. Очень существенно то, что сформулированные в СПР приоритеты пространственного развития российской экономики не получают исчерпывающей «развертки» в виде системы государственных программ, национальных проектов и/или их составляющих. Без такой «развертки» откровенно «провисает» вопрос об эффективном управлении реализацией СПР, о формировании для этого необходимого экономического обеспечения.
Даже с учетом сделанных поправок и дополнений в СПР не решена в полном объеме проблема разграничения целей и задач, а также согласования действий в сфере пространственного регулирования между уровнями публичной власти. Откровенно проигнорирован в СПР и вопрос об использовании при осуществлении мер пространственного регулирования различных форм государственно-частного (далее – ГЧП) и муниципально-частного партнерства (далее – МЧП). Эти институты в СПР вообще не представлены, хотя реализацию большинства программ и проектов без использования методов ГЧП и МЧП даже трудно себе представить.
На субфедеральном уровне пока сохраняется ситуация, при которой стратегии социально-экономического развития субъектов Федерации, в том числе и так называемых геостратегических регионов, формально отсылаясь к СПР как одному из источников своего стратегирова-ния, на деле не содержат четких представлений о том, какие именно положения СПР и каким конкретно образом применительно к данному субъекту Федерации предполагается практически реализовать. Это касается и стратегий тех муниципалитетов России, которые так или иначе отнесены в СПР к так называемым «перспективным» центрам или точкам экономического роста, конкретный механизм задействования которых в ходе социально-экономического развития соответствующих территорий никак в документе не обозначен.
Действующая практика стратегирования социально-экономического развития субъектов Федерации свидетельствует об отсутствии сопряженности пространственного «сегмента» региональных стратегий по целям, задачам и инструментам с конкретными положениями СПР. Это объясняется несогласованностью институциональных новаций СПР со специфическими условиями ведения хозяйственной деятельности на той или иной территории. Резюмируя сказанное, можно утверждать, что, несмотря на внесение целого ряда дополнений, СПР пока еще не сформировала собой прочную базу государственной политики в сфере регионального развития.
Новации без должной конкретизации
В целом характер поправок к СПР, принятых в 2022 г. 1, говорит о том, что этап критического анализа этого документа не прошел впустую. Некоторые явные «ниши» начальной версии СПР если не закрыты полностью, то наметился вектор продвижения в данном вопросе. Как отмечалось на форуме, эти продвижения в ближайшей перспективе следует не только конкретизировать и закрепить в системе нормативно-правовых и методических документов, но и распространить разработанный алгоритм актуализации положений СПР на другие вопросы пространственного регулирования в российской экономике, ждущие своего решения. Анализ результатов последнего по времени этапа обновления СПР показал, что наиболее важные продвижения здесь видятся по двум основным направлениям.
-
1. Осуществление детализации признаков и роли агломераций как формы пространственной организации расселения и хозяйственной деятельности, включая новые институты «прочих агломераций». Внесение некоторой конкретизации в практику стратегирования социально-экономического развития агломерационных образований. Одновременно заметен отказ от абсолютизации самой идеи агломерирования и его доминирующей роли в стимулировании социально-экономического развития страны и ее регионов. В документе сделан акцент на рост малых и средних городских агломераций, а также на развитие сельских территорий с целью снижения концентрации субъектов экономической деятельности и населения в столичных агломерациях. Позитивным мы видим введенную в СПР оговорку относительно развития агломераций в Российской Федерации не «вообще», а в противовес избыточному разрастанию двух столичных агломераций (Москва и Санкт-Петербург), если, конечно, считать, что эта задача вообще разрешима.
-
2. Проведение детализации механизма реализации ряда институциональных новаций СПР. Например, это касается такой институции, как перспективные экономические специализации субъектов Федерации, которые содержались уже в первоначальной версии СПР, однако с точки зрения механизмов их практической реализации как-то сразу «провисли в воздухе». Теперь СПР предусматривает такой канал практического продвижения перспективных специализаций, как уточнение правил предоставления бюджетам субъектов Федерации и/или хозяйствующим субъектам субсидий и иных целевых трансфертов из федерального бюджета для государственной поддержки отраслей экономики в части обязательного учета перечня перспективных экономических специализаций субъектов Федерации.
-
3. Введение института «опорных населенных пунктов» вне агломераций, нацеленного на совершенствование территориальной системы организации оказания услуг социальной сферы, обеспечивающей ее оптимальную доступность с учетом современных технологий предоставления этих услуг.
Особо все же следует выделить усиленное внимание СПР к регулированию агломерационных процессов, ход которых также привлек внимание участников Форума. Агломерации действительно представляют собой важный и динамично развивающийся компонент пространствен- ной структуры российской экономики. Вопрос об агломерациях занял едва ли не центральное место в поправках к СПР в 2022 году. Появился институт не только крупных и крупнейших, но и, как отмечено выше, институт «прочих» городских агломераций 2. Соответственно, поправки заметно расширили трактовку агломерации в смысле числа жителей (минимально от 250 тыс. вместо 500 тыс. чел. ранее). Сегодня такие агломерации – половина населения страны и почти ¾ ее ВВП. Исследования последних лет действительно выявили экономические преимущества агломераций и, в частности, показали, что именно в пределах агломераций имело место более быстрое восстановление объемов хозяйственной деятельности и сферы МСП после негативного воздействия пандемии коронавируса. Прежде всего это стало возможным за счет характерной для экономической среды агломераций более быстрой адаптации бизнеса к новым секторам и формам хозяйственной деятельности, в частности, путем перехода на интернет-услуги, удаленную работу, доставку продукции и товаров и пр. Однако при всей важности этого эффекта агломераций он все же лишь частично характеризует механизм их позитивного воздействия на социально-экономическое развитие территорий, и этот механизм, как показали выступления на Форуме, нуждается в серьезной конкретизации.
Кроме того, в СПР указывается на «несбалансированное пространственное развитие» агломераций, хотя смысл этой несбалансированности (чего с чем?) остается практически нераскрытым. Можно предположить, что речь идет о балансе агломераций и менее крупных поселений или о проблеме неравномерности в пространственном размещении агломерационных образований по территории Российской Федерации.
Остался раскрытым в недостаточной мере и вопрос о том, как столь грандиозные рамки агломерирования скажутся на организации системы субрегионального управления и вообще, мыслимо ли введение единых критериев агломераций для крайне различных по всем экономическим, социальным и иным параметрам субъектов Федерации. Так, в отсутствие целевого федерального закона (есть только законопроект «О городских агломерациях…» [Проект ФЗ «О городских … , 2020]) остается неясным, каким должно быть формальное закрепление статуса агломерации: как и кем оно должно осуществляться. Не ясно, будут ли продиктованы регионам те или иные модели управления имею- щимися у них агломерациями или каждый из них будет свободен в выборе такой организации.
За последние годы, как свидетельствует Форум, был проведен разносторонний анализ как практического опыта агломерирования в стране, так и имевшегося законопроекта по данному вопросу. Как показал этот анализ, а также выступления участников Форума, многие вопросы касательно процессов агломерирования по-прежнему остаются дискуссионными. Например, это вопрос о соотношении понятий «агломерация» и «мегаполис». Так, не ясно, обязательно ли мегаполис должен представлять собой агломерационное образование, на какую из этих институций должно распространяться формирование особых схем территориального управления на основе той или иной реорганизации системы местного самоуправления.
Действительно, при всех возможных различных количественных и качественных признаках агломерационных образований таковые в институциональном плане всегда представляют собой совокупность муниципальных образований, которые так или иначе должны действовать и управляться как единое целое, иначе позитивный смысл агломерирования просто исчезает. Однако принципы и процедуры такого взаимодействия и единого управления пока еще никак не отрегулированы и фактически на местах определяются спонтанно.
В этой связи внимание участников Форума было уделено двум важным аспектам воздействия агломерационных процессов на пространственное развитие экономики. Это суть и механизм реализации агломерационного эффекта для развития территорий и формирование систем публичного управления в агломерациях, а также их включения в практику стратегического планирования. Этот круг вопросов в законопроекте по агломерациям был отражен явно неудовлетворительно, а в новой редакции СПР представлен лишь в самой сжатой трактовке.
Этот документ указывает, что органами исполнительной власти субъектов Федерации совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления могут разрабатываться долгосрочные планы социально-экономического развития крупных и крупнейших городских агломераций (именно планы, а не стратегии как таковые, т. к. агломерации не являются публично-правовыми образованиями и, следовательно, не могут быть полноправными участниками страте- гического планирования). Однако кое-что в названном выше положении вызывает сомнения. В частности, это такое положение, как «могут разрабатываться». Что значит «могут» или «не могут»? Кем и как это фактически будет определяться? Не ясно и то, почему основная роль в разработке долгосрочных планов социально-экономического развития агломераций отдается субъектам Федерации, а не тем органам управления, которые будут осуществлять практическое руководство функционированием агломерацией как целостным территориально-экономическим образованием? Не получается ли так, что субъектам Федерации фактически дается право вето на стратегирование развития агломераций?
Аналогично за рамками исчерпывающего понимания остаются суть и механизмы агломерационного эффекта для развития территорий. Федеральные и особенно региональные источники в этом смысле полны оптимизма и радужных перспектив. В регионах в расчете на эти позитивные перспективы принимаются «свои» законы об агломерациях, но в отсутствие соответствующего федерального законодательства эти документы неизбежно носят лишь общий декларативный характер [Закон Кемеровской области № 28-ОЗ ... , 2022]. По существу, в настоящее время подобные документы вправе лишь интерпретировать нормы Федерального закона № 131-ФЗ от 2003 года. Соответственно, «региональные агломерации» лишь постольку юридически правомочны, поскольку в своей деятельности они не выходят за рамки положений этого федерального закона.
Более того, из-за отсутствия прочной законодательной базы многие декларированные в регионах агломерации в итоге существуют лишь на бумаге. Часто складывается ситуация, при которой изначальные импульсы к созданию агломерации в том или ином регионе и систем управления ею со временем начинают «угасать», сужаясь до совместного осуществления рядом муниципалитетов нескольких совместных проектов, часто далеко не первостепенного значения.
Принято считать, что агломерационный процесс обеспечивает своего рода синергетический эффект, существенно повышающий эффективность хозяйственных процессов и социального развития для составляющих агломерацию территорий. Однако на деле источники столь благостного влияния агломерационных процессов остаются не вполне понятными, если не считать расчета на федеральную или иную особую поддержку агломераций. Мы разделяем точку зрения, что в большинстве случаев позитивный эффект на развитие территорий может быть реализован при двух обстоятельствах: а) если параллельно агломерационным процессам в них будет идти образование кластерных структур широкого профиля (производство + наука + образование); б) если будет обеспечен постоянный «вынос» позитивного социально-экономического эффекта агломераций на прочие сопредельные территории.
Вместе с тем как свидетельствует отечественный и зарубежный опыт, агломерационные процессы могут иметь и негативный эффект для развития входящих в агломерацию территорий. Смысл этого потенциально возможного негативного эффекта, уже давно отмеченного экономистами других стран [Richardson, 1995; Wang, 2018], состоит в том, что в силу тех или иных условий центр агломерации не транслирует дополнительные импульсы социально-экономического развития агломерируемым территориям. Напротив, он как бы выступает в роли «насоса», который все более притягивает к себе экономическую деятельность и трудовые ресурсы агломерируемых территорий, превращая их в основном в селитебные и рекреационные ареалы. По мнению большинства экспертов, позитивные стороны процессов агломерации на основе формирования эффективных систем управления ими могут быть гарантированы лишь на базе разработки и принятия целевого федерального закона. Не случайно в ходе работы Форума его участники твердо высказались в пользу доработки и принятия целевого федерального закона об агломерациях.
С другой стороны, ряд экспертов по-прежнему высказывают мнение, что особый закон по агломерациям вообще не нужен, так как вполне можно обойтись дополнениями к Федеральный закон № 131-ФЗ (ст. 8 и гл. 9) по вопросам межмуниципального сотрудничества. Это мотивируется тем, что в практике агломерационных процессов и управления ими в настоящее время все часто сводится к действиям, и сейчас допускаемым Федеральным законом № 131-ФЗ о местном самоуправлении в отношении практики межмуниципального сотрудничества. Однако мы все же остаемся при мнении, что такой закон необходим. Его наиболее важные регулирующие позиции можно определить следующим образом: юридическая формализация (закрепление) агломерации и ее статуса; порядок формирования управляющих структур агломераций и их взаимодействия с органами государственной власти субъектов Федерации, а также с органами местного самоуправления в пределах агломерации; выстраивание механизмов реализации социально-экономического эффекта агломераций на все составляющие их территории.
Как же поступить с СПР?
По итогам работы Форума твердо сложилось явное впечатление, что предпринятое в 2022 г. внесение изменений и дополнений в СПР не только «не закрыло» вопрос о судьбе этого документа стратегического планирования, но и наоборот, еще более подчеркнуло его актуальность. При этом участниками Форума аргументировано высказывалась позиция о нецелесообразности дополнительных новаций СПР до истечения срока ее действия (2025 г.). Тем не менее формировать концепцию новой СПР, которая будет «работать» после 2025 г., необходимо уже сейчас. При этом следует шире обратиться к научно-теоретическому наследию по вопросам пространственного развития и регулирования, к анализу становления федеративных отношений, а также развития регионов и муниципалитетов страны за последнюю четверть века.
Значимость учета федеративной составляющей для формирования и стратегирования трендов пространственного развития страны качественно возросла по мере перехода России от модели формального федерализма к ситуации реального федерализма. В этой связи в настоящее время постоянно обращается внимание на неразрывную связь процессов пространственного развития и системы управления ими на всех уровнях публичной власти с развитием экономико-правового механизма федерализма. Федерализм, федеративные отношения представляют собой основную институционально-правовую «оболочку» политики пространственного регулирования.
С этой точки зрения особую важность приобретает высказанная А.Г. Гранбергом мысль о важности вертикальных взаимодействий в регулировании пространственных характеристик национальной экономики [Стратегии макрорегионов России … , 2004]. Сейчас же СПР, формально констатируя наличие нескольких уровней такого регулирования, практически не специфицирует их особую роль и механизмы взаимодействия в рамках такого регулирования. Модель пространственного регулирования, представленная в СПР, ско- рее, присуща унитарному государству, нежели федеративному. При этом СПР как бы «вторгается» в структуру российской федеративной государственности, определяя новые объекты и субъекты стратегического планирования и его пространственной компоненты. Однако полномочия субъектов Федерации в сфере пространственного стратегирования настолько ограничены, что их сложно воспринимать всерьез. Не определен в достаточной мере и круг аналогичных полномочий таких субфедеральных структур, как федеральные округа и макрорегионы.
В настоящее время среди почти 60 тыс. документов стратегических документов всех уровней значится только 1 стратегия макрорегиона (Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 г.) и 1 стратегия уровня федерального округа (Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 г.). Получается, что все попытки СПР «вытянуть» макрорегионы на позицию значимого участника социально-экономического, в том числе пространственного стратегирования, пока сколько-нибудь серьезного успеха не имели.
В настоящее время также в качестве уровня пространственного стратегирования сохраняет свою значимость закрепленный в СПР институт так называемых «геостратегических регионов». Этот институт был установлен еще в первой версии СПР. Анализ показывает, что данная в СПР выборка «геостратегических регионов» по-прежнему носит не экономический, а географический характер, а их специфика как объектов пространственного стратегирования и государственной политики регионального развития практически не улавливается. Проведенный анализ показывает, что действующие документы стратегического планирования – как федерального, так и особенно регионального уровня – в лучшем случае содержат лишь формальную отсылку к отнесению тех или иных регионов к числу «геостратегических», но специфику этих субъектов Федерации как объектов государственной политики регионального развития и пространственного регулирования никак не обнаруживают. Следствием этой неопределенности выступает отсутствием указаний на специфику практики стратегического планирования для данной группы регионов.
Исследования показывают необходимость не только выделения нескольких блоков геостратегических регионов России, но и конкретизации специфики (сущности) их геостратегического статуса и выделения в каждом случае особых мер государственной политики, направленных на продуктивную реализацию этого статуса, а не его формальное декларирование.
Значимость системного учета федеративной природы российского государства для формирования эффективной пространственной структуры его экономики проявляется и в том, как развивается в стране система местного самоуправления. При этом имеется в виду российский федерализм в широком государственно-демократическом смысле, то есть включая и сферу местного самоуправления. Последнее, в частности, существенно важно для обеспечения мощного позитивного воздействия процессов агломерирования на развития экономики России и ее регионов. Надо сказать, что и в обновленном виде обращение СПР к проблематике развития российского местного самоуправления и его роли в решении проблем пространственного развития видится минимальным (за исключением скромной роли муниципалитетов в формировании самих агломераций и органов управления ими).
Между тем в ходе работы Форума неоднократно делались высказывания относительно того, что действующая в стране система институтов местного самоуправления, их полномочия и экономические возможности не адаптированы ко всему многообразию территориальной организации расселения и производства, включая проблемы комплексного управления такими крупными социально-экономическими территориальными образованиями, такими как мегаполисы и агломерации. И в данном случае хорошо заметно, что действующая версия СПР по-прежнему страдает отрешенностью от наиболее значимых проблем институционального характера, в частности, решаемых в рамках таких преобразований, как федеративная и муниципальная реформа. На деле именно актуальные задачи пространственного регулирования во многом должны задавать вектор этих реформ, но этого не происходит. В результате эти реформы в Российской Федерации теряют свой четкий «мейнстрим»; совершают некие колебательные движения. Это хорошо прослеживается на примере законопроекта по местному самоуправлению [Проект ФЗ № 40361-8 ... , 2021], поскольку предполагаемые в нем преобразования, по сути, представляют собой полное отрицание позитивных итогов муниципальной реформы, осуществленной на базе положений Федеральный закон № 131-ФЗ 2003
года. Эти преобразования явно сформированы «по наитию», а не на базе взвешенных аргументов в пользу усиления роли муниципального звена управления в решении хозяйственных и социальных задач территорий, а также в практике пространственного регулирования в целом [Бухвальд, Кожевников, Ворошилов, 2022].
Законопроектом предусматривается ликвидация поселенческой основы местного самоуправления с заменой ее в соответствующих населенных пунктах территориальными органами местной администрации. Фактически это возврат ситуации, которая существовала в большинстве регионов России до муниципальной реформы на базе Федерального закона № 131-ФЗ. «Обоснованием» такого шага служит якобы низкая эффективность поселенческого уровня самоуправления, высокая дотационность муниципалитетов в небольших поселениях. Да, во многом такая ситуация действительно имеет место. И все же, по мнению авторов, нужно, в первую очередь, говорить не о низкой эффективности поселенческого уровня институтов местного самоуправления, а о малой, почти нулевой результативности многолетних обещаниях и попыток укрепить их экономическую и иную базу (имущественную, кадровую и пр.), сделать их активным «игроком» на поле решения задач пространственного развития национальной экономики.
Обновленная СПР, естественно, не высказывается в пользу той или иной версии нового этапа муниципальной реформы в стране. Между тем, было бы вполне правдоподобно видеть в этом документе представления о том, какая именно модель российского местного самоуправления в наибольшей мере отвечает задачам пространственного регулирования, в том числе с учетом многообразия ситуации в различных регионах страны. Однако есть признаки того, что новая версия СПР как бы пытается «приспособиться» к той ситуации в сфере местного самоуправления, если основные положения названного выше законопроекта будут реализованы на практике. Именно этой гипотезе, на наш взгляд, отвечает введение в СПР института так называемых «опорных населенных пунктов» вне агломераций, нацеленного на совершенствование территориальной системы оказания населению услуг социальной сферы.
Однако здесь сохраняется много неясностей. В признаке «опорности» явно смешаны понятия «населенный пункт» и «муниципальное образование». В случае реализации законопроекта в действующем виде делегирование признака «опорности» муниципальным образованиям будет маловероятно, поскольку муниципальные образования в стране в этом случае будут представлены одними округами (за исключением столичных городов). Далее, чтобы выполнять столь значимые функции, «опорное поселение» обязательно должно иметь достаточные полномочия и финансовые ресурсы, то есть иметь некий особый полномочный статус и особый бюджет. Но регулирование этих вопросов непосредственно не входит в круг задач СПР. Ясно, что тут нужны соответствующие дополнения в закон о местном самоуправлении и в Бюджетный кодекс РФ.
Кроме того, было бы неверно сводить все изменения в пространственной структуре экономики только к функциям тех или иных уровней публичной власти. По мере перехода от планово-директивной экономики к преимущественнорыночным началам хозяйствования роль публичной власти в формировании пространственной структуры экономики сместилась от методов жесткого регулирования размещения производительных сил к использованию программно-проектных методов управления, а также институтов пространственного развития, во многом действующих на началах государственно-частного и муниципально-частного партнерства. Этот традиционно постулируемый на Форуме тезис так и не находит отражения в СПР.
Таким образом, современная парадигма теории и практики пространственной организации экономики в равной мере включает в себя проблему соотношения рыночного саморегулирования и государственного регулирования. Однако ни начальный вариант СПР, ни внесенные в нее впоследствии изменения и дополнения на эту объективную необходимость никак не откликаются, в результате чего институционально-инструментальный аппарат СПР смотрится очень неполно, неубедительно. Это не дает возможности увязать государственную стратегию пространственной развития национальной экономики не только с аналогичными долговременными планами крупнейших российских корпораций и иных ведущих частных инвесторов и предпринимателей, но и с существующими задачами по развитию сферы малого и среднего предпринимательства.
Заключение
Работа Форума стратегов-2022 показала, что полная новая версия СПР остается очевид- ным актуалитетом в ходе дальнейшего формирования концептуально-документальной базы для всей практики стратегического планирования в Российской Федерации. Для этого, прежде всего, необходимо изменить сам алгоритм работы над данным документом. Действующая версия СПР (начальный вариант) многократно обсуждалась на различных совещаниях, форумах, круглых столах и пр., но фактически писалась и дорабатывалась узкой группой экспертов, которые слабо реагировали на все высказывавшиеся замечания и предложения. В итоге получилось, что обсуждались одни варианты документа, а в итоге был принят совсем иной. Прошел «мимо» научно-экспертного сообщества и блок изменений и дополнений к СПР, принятых в 2022 году. При этом очень важно учесть в дальнейшем и мнение представителей субъектов Федерации и представителей муниципального сообщества. Таковые в нынешнем варианте СПР себя почти «не видят» и не могут в полной мере использовать этот документ для формирования долгосрочных планов своего социально-экономического развития.
В основе полной новой редакции СПР должна лежать ее глубокая взаимосвязь с иными направлениями стратегического планирования как институционального, так и отраслевого характера. В первую очередь это касается дальнейших шагов федеральной и муниципальной реформы в стране, которые сами по себе нуждаются в концептуальном закреплении и обновленном законодательном регулировании 3. Необходима «рабочая» согласованность СПР с программно-проектными методами управления, а также с активно развивающейся практикой государственно-частного и муниципально-частного партнерства. Наконец, абсолютно неприемлема неудовлетворительная ситуация с целеполаганием СПР, которая еще более ухудшилась после внесения поправок 2022 г. и теперь вообще не соответствует сути СПР как документа стратегического планирования.
Список литературы Корректировки в стратегии пространственного развития: есть ли значимые продвижения?
- Бухвальд Е. М., 2016. Какой быть стратегии пространственного развития для России? // Экономическое возрождение России. № 1 (47). С. 41–52.
- Бухвальд Е. М., Кожевников О. А., Ворошилов Н. В., 2022. Местное самоуправление: реформировать, но не уничтожать // Самоуправление. № 1 (29). С. 12–15. DOI: 10.55488/22218173_2022_1_12
- Закон Кемеровской области – Кузбасса «О создании и развитии агломераций в Кемеровской области – Кузбассе» от 24 марта 2022 г. № 28-ОЗ, 2022. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4200202203300001
- Минакир П. А., 2016. Национальная стратегия пространственного развития: добросовестные заблуждения или намеренные упрощения? // Пространственная экономика. № 3. С. 7–15. DOI: 10.14530/se.2016.3.007-015
- Проект Федерального закона № 40361-8 «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», 2021. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/40361-8
- Проект Федерального закона «О городских агломерациях» (подготовлен Минэкономразвития России, ID проекта 01/05/09-20/00107906) (не внесен в Государственную Думу Федерального Собрания РФ), 2020. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=199079#040256900775604193
- Распоряжение Правительства РФ от 13 февраля 2019 г. № 207-р (ред. от 25.06.2022 г.) «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года», 2022. URL: http://government.ru/docs/35733/
- Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2019 г. № 3227-р «Об утверждении плана реализации Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период 2025 года» (с изм. На 31 мая 2022 г.), 2022. URL: http://government.ru/docs/38742/
- Распоряжение Правительства РФ от 25 июня 2022 г. № 1704-р «Об утверждении изменений, которые вносятся в Стратегию пространственного развития Российской Федерации до 2025 года», 2022. URL: http://government.ru/docs/all/141807/
- Симонова Л. М., Ефремова И. А., 2016. Пространственное стратегирование России // Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования. Т. 2, № 4. С. 161–174. DOI: 10.21684/2411-7897-2016-2-4-161–174
- Стратегии макрорегионов России: методологические подходы, приоритеты и пути реализации, 2004 / под ред. акад. А. Г. Гранберга. 2004. М. : Наука. 720 с.
- Указ Президента РФ от 8 ноября 2021 г. № 633 «Об утверждении Основ государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации», 2021. URL: https://base.garant.ru/403015816/
- Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 2014. URL: http://base.garant.ru/70684666/
- Щитинский В. А., 2015. «Стратегия пространственного развития Российской Федерации» – инновация в государственном управлении России // Управленческое консультирование. № 7 (79). С. 35–44.
- Richardson H. W., 1995. Economies and Diseconomies of Agglomeration // Urban Agglomeration and Economic Growth. Berlin : Springer. P. 123–135.
- Wang J., 2018. Economic Analysis of Industrial Agglomeration Singapore. Singapore : Springer. 96 р.