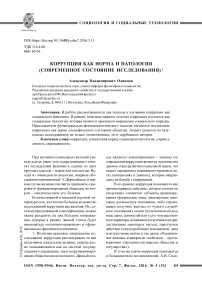Коррупция как норма и патология (современное состояние исследования)
Автор: Одинцов Александр Владимирович
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Социология и социальные технологии
Статья в выпуске: 3 (33), 2016 года.
Бесплатный доступ
В работе рассматриваются два подхода к изучению коррупции как социального феномена. В рамках политико-правого подхода коррупция изучается как социальная патология, которая является признаком нарушения социального порядка. Представители функционально-феноменологического подхода пытаются исследовать коррупцию как норму специфического состояния общества. Акцент делается на актуальных исследованиях не только отечественных, но и зарубежных авторов.
Коррупция, социальная норма, социальная патология, справедливость, оправданность
Короткий адрес: https://sciup.org/14974808
IDR: 14974808 | УДК: 316.4.06 | DOI: 10.15688/jvolsu7.2016.3.11
Текст научной статьи Коррупция как норма и патология (современное состояние исследования)
DOI:
При изучении социальных явлений ученые всегда (явно или подразумеваемо) относят исследуемый феномен к одному из двух крупных классов – норме или патологии. Исходя из очевидности аналогии, впервые обоснованно примененной Э. Дюркгеймом, в первом случае явление считается признаком «здорового» функционирования общества, во втором – свидетельством его болезни.
В отечественной и западной научной литературе есть достаточно большое количество исследований коррупции как явления. Их, согласно предложенной классификации, можно также разделить на два больших направления, которые в рамках данной статьи будут именоваться «политико-правовым» и «функционально-феноменологическим»:
1. Политико-правовое направление исследований коррупции рассматривает ее как негативное социальное явление, отрицательно сказывающееся как на системе государственного управления, так и на функционировании общества как целостности. Данный под- ход является доминирующим – именно его определение коррупции является основным на данном этапе развития социальной науки, что нашло отражение в нормативно-правовых актах (концепциях и законах), которые направлены на борьбу с коррупцией.
В его рамках коррупция понимается как противоправное действие, которое состоит из следующих элементов: субъекты правонарушения (физические лица, занимающие некоторое должностное положение, либо стремящиеся получить выгоды от чужого служебного положения), мотив (получение выгоды в виде денег, ценностей или услуг имущественного характера, незаконное получение или предоставление некоторых выгод), преступное действие (злоупотребление положением, дача или получение взятки и так далее, объединенное важным априорным свойством – противоречием «законным интересам общества и государства»).
В этом же ключе коррупция понимается и большинством исследователей. А.И. Сидо- ров полагает, что «коррупция – это абсолютная монополия на использование привилегированного положения (должностного влияния, полномочий в разных сферах и т. п.) любым субъектом в корыстных целях вопреки государственным, социально-экономическим интересам, принципам общественной нравственности при отсутствии (или слабом) контроле как со стороны власти, так и со стороны общества за этим явлением» [11, с. 8].
Социологическая энциклопедия дает следующее определение: коррупция – особое социальное явление, сущность которого заключается в «использовании должностными лицами доверенных им прав и властных возможностей в целях личного обогащения» [12]. Данное определение является весьма распространенным и в рамках зарубежных исследований коррупции. Так, Б. Донг, У. Даллек и Б. Торглер понимают под коррупцией форму «осуществления государственной власти в корыстных целях, охватывающую различные аспекты, начиная от частоты “дополнительных платежей, чтобы добиться цели” вплоть до воздействия на бизнес-среды» [14].
Однако наиболее ярким является образ, примененный Е.В. Охотским – «противоправная мораль», который своеобразным способом объединяет ценностную и легальную нормативные структуры общества, и, по существу, является своеобразной реминисценцией таких категорий, как «теневой порядок», «теневая экономика», «организованная преступность». Для коррупции, по его мнению, характерно «наличие личной заинтересованности, сознательное противоправное подчинение публичных интересов частным» [9].
В общем и целом данный подход характерен тем, что в его рамках коррупция воспринимается как абсолютное зло, причем как для существования государственной власти и местного самоуправления, так и для всего общества в целом. При этом игнорируются функции, которые исполняет коррупция в рамках социальных систем. В данном подходе они подменяются особой преступной мотивацией сторон (взяткодателя и коррупционера) в процессе заключения коррупционного сговора (сделки).
Неоспоримыми плюсами данного подхода являются:
-
а) наличие легально закрепленного определения «коррупция», которое четко установлено в федеральном законодательстве. Указанное позволяет (по крайней мере, в рамках нормативно-правового подхода) четко разграничивать коррупцию и прочие противоправные деяния и проступки;
-
б) коррупционное действие не только может быть квалифицировано в рамках правоохранительной деятельности, но сама коррупция как социальное явление может быть переведена в математическую модель, то есть «посчитана» (например, как количество возбужденных дел по статье «коррупция», как количество дел, доведенных до суда, и дел, по которым принято обвинительное решение);
-
в) исследования коррупции в рамках данного подхода направлены на решение сугубо прикладной задачи – предотвращение проявлений коррупции, снижение возможностей для коррупционного действия чиновников;
-
г) основными методами противодействия коррупции являются политико-правовые, которые состоят в действии коллективного законодателя, то есть в принятии и совершенствовании нормативно-правовой базы, либо в непосредственной реализации политической воли народа или высшего должностного лица России.
Недостатки данного подхода при рассмотрении коррупции непосредственно базируются на его достоинствах:
-
а) определение коррупции в федеральном законодательстве делает сложным квалификацию таких явлений, как кумовство, протекционизм, лоббизм (они либо вообще не упоминаются в правовых актах, либо упоминаются в локальных актах отдельных министерств и ведомств);
-
б) в рамках данного подхода успешно могут быть отслежены лишь те факты коррупции, которые попали в поле зрения правоохранительных структур, при этом «реальный» размер коррупции может быть оценен либо экспертным способом, либо массовыми опросами населения, то есть методами с заметной погрешностью измерения. Кроме того, необходимо помнить, что хотя «действия, квалифицируемые как преступные, не везде одни и те же, но всегда и везде существовали люди,
которые поступали таким образом, что навлекали на себя уголовное наказание» [3];
-
в) сознательно игнорируется возможность существования положительных социальных функций коррупции, несмотря на то что во многих ставших классическими методиках изучения коррупции (например, в инструментарии Фонда ИНДЕМ) социологически определяется такая переменная, как «востребованность коррупционных услуг» населением. Таким образом, коррупция воспринимается исключительно как негативное явление, что позволяет говорить о тенденциозности исследований в рамках данного направления. Именно это позволяет критикам политико-правового подхода говорить о «лечении» коррупции как симптомов, а не болезни;
-
г) несмотря на эффективность политикоправовых методов при борьбе с коррупцией, их одних явно недостаточно, о чем свидетельствует и практика борьбы с коррупцией с помощью смертной казни в Китае, где суровость наказания за данное преступление заметным образом не влияет на широту распространения коррупции. Конечно, в рамках данного направления существует множество гипотез о причинах роста и распространения коррупции, но при выработке предложений они либо игнорируются, либо превращаются в аморфные и слабореализуемые на практике механизмы (например, в виде «опоры на традиционные ценности русского народа» и т. п.).
-
2. Функционально-феноменологическое направление в изучении коррупции базируется на том, что коррупция как всякое социальное явление является носителем специфических функций.
Главным поводом для сомнения в применимости этих предложений на практике, а также в том, является ли этот подход объективным, является имманентное и аксиоматичное принятие в нем того факта, что коррупция является патологией.
Чтобы определить, является коррупция нормой или патологией, необходимо обратиться к фундаментальной методологической работе Э. Дюркгейма «Социология. Ее предмет, метод и назначение».
Классик социологии на ряде примеров убедительно показал, что «факт может быть назван патологическим только по отношению к данному виду. Условия здоровья и болезни не могут быть определены in abstracto и абсолютно» [3]. «Важно в самом начале исследования иметь возможность разделить факты на нормальные и ненормальные… чтобы считаться нормальным факт должен быть признан полезным или необходимым по отношению к нормальному типу» [3].
Нормативно-правовой подход априорно определяет коррупцию как патологию, но при этом соотнося ее не с нормой, а с нормативным идеалом, определенным законом или особыми исследовательскими установками в отношении данного явления. Однако коррупция может восприниматься как социальная болезнь, как сбой механизмов государственного управления и поддержания социального порядка лишь тогда, когда исследователь может достоверно определить тип общества. Если общество является «квази-современным» [10], «сословным» [4], а также каким-либо «переходным», «трансформирующимся», то говорить о том, что кумовство, блат, коррупция в нем являются социальным злом, некорректно.
Именно на этом положении основывается второй подход к изучению коррупции.
Показательным в рамках данного подхода является то, что два основных представителя отечественной эмпирической социологии, руководящие двумя ведущими исследовательскими центрами, В. Федоров (ВЦИОМ) и А. Ослон (ФОМ), придерживаются мнения, что роль коррупции в современной российской действительности и тем более в 90-е гг. не может быть однозначно оценена как негативное явление. Так, А. Ослон пишет: «Россия впервые в своей истории столкнулась с этой проблемой, и наш язык даже не приспособлен к ее адекватному описанию: в будничной речи мы чаще всего обозначаем сложный социально-культурный комплекс, о котором идет речь, просто коррупцией» [8]. Именно по этой причине в рамках функционально-феноменологического подхода коррупция либо разграничивается от ряда социальных явлений (таких как блат, кумовство, протекционизм, мздоимство и т. д.), либо тесно смыкается с иными категориями анализа общества, отношение к которым не столь однозначно негативное. Позитивные функции коррупции в отдельных обществах изучались в конце прошедшего столетия еще до крушения Советского Союза. Так Х. Де Сото полагал, что в ряде государств, в которых широко распространена коррупция, дополнительные платежи для «ускорения процесса» могут быть вполне оправданы и являться нормальной частью административного процесса. Вплоть до того, что в отдельных странах бюрократический механизм вообще не работает без этих «дополнительных платежей» [13].
В.Н. Мельников и А.Г. Мовсесян [7] фактически признают за теневой экономикой прогрессивные экономические функции, своеобразную компенсацию от установления чрезмерного регулирования в рамках легальной экономики, которая подконтрольна государству. Примером позитивной экономической функции коррупции являются отношения предпринимателей и налоговых инспекторов (налоговых полицейских) на ранних этапах становления российской фискальной системы.
Это подтверждают и западные исследования экономик в транзитивном состоянии. Так, Я. Корнаи [16], Дж. Мартинес-Васкес и Р.М. Макнаб [19] сообщают, что граждане во многих странах с трансформирующейся экономикой не платили налогов в начале переходного процесса. Таким образом, налогоплательщики резко реагировали на вынужденные изменения налоговой политики в процессе перехода от централизованной к рыночной экономике. Дело в том, что в плановой экономике отсутствовала сама реальная практика налогообложения, и граждане, впервые за почти 80 лет столкнувшиеся с феноменом налогов на доходы и имущество, не могли понять их природу.
Коррупция, под какими бы именами она не выступала в работах исследователей («взяточничество», «блат», «должностное преступление» и, собственно, «коррупция»), имеет продолжительную историю существования, доставшуюся современной России от советского этапа развития страны. Советолог Дж. Хайнзен [15], исследовав материалы государственных архивов РФ, утверждает, что она начала процветать уже в послевоенный период, а А. Леденева [17] подробно исследует развитие указанных неформальных практик в поздний советский период.
Ректор Высшей школы экономики Я. Кузьминов в «Тезисах о коррупции» [5] предлагает разделять категории «коррупция» и «взяточничество». В первом случае чиновник напрямую нарушает свои обязательства, во втором фактически зарабатывает «лишние деньги» за исполнение собственных должностных обязанностей (к примеру, ускоряет течение необходимых процедур согласования на те или иные необходимые для занятия бизнесом разрешения). Такая практика неприемлема для делового сообщества малого и среднего бизнеса в силу того, что она влечет за собой отвлечение как материальных, так и временных ресурсов (см. Примечание), а также существенно повышает возможности административного произвола. В общем, подход Я. Кузьминова к явлению коррупции состоит в том, что этим термином в данный момент называются два различных явления: первое – «плохая коррупция», которая непосредственно понимается им как «коррупция», то есть как преступление против государственной власти, непосредственное нарушение должностных обязанностей, и второе – «хорошая коррупция», которая является своеобразным компенсирующим негибкость государственной политики механизмом (об этом же, по существу, говорят В. Федоров, А. Ослон, А. Мовсесян, В. Мельников).
В.В. Волков пытается дать объяснение коррупции в качестве системного явления. Коррупция понимается им как сбой в поддержании структурных границ государства, которые отделяют его от «сферы частных интересов и персонифицированных отношений…» [1, с. 289–290].
При этом В.В. Волков непосредственным образом связывает категорию коррупции со способностью государства применять легальное и легитимное насилие в качестве гарантии выполнения обязательств договорных отношений между любыми акторами в обществе. Ослабление государственных силовых структур в 90-х гг. ХХ в. побудили иные структуры исполнять функции «силового прикрытия», которое не могло обеспечивать государство. Их стали выполнять «силовые предприниматели», привлечение которых позволяло относительно дешево (за процент от совершения сделки) обеспечивать порядок при осу- ществлении взаиморасчетов между экономическими агентами различных уровней.
Одну из интересных точек зрения на функционирование и причины коррупции в рамках данного подхода представил Е. Лазарев [6]. Под коррупцией им понимается «политический институт – устойчивый тип политического поведения, выражающийся в определенной системе коллективных действий, – задающий “правила игры” для властных элит, который определяет рамки взаимодействия государства и групп интересов» [6].
Эмпирической основой исследования Е. Лазарева являются данные регрессионного анализа рейтингов международных организаций, которые на основе экспертных оценок оценивают степень «силы», «открытости», «коррумпированности» и иных показателей в значительном количестве государств мира. Лейтмотивом работы Е. Лазарева является тезис, который состоит в том, что коррупция является:
-
а) признаком «слабого государства»;
-
б) способом политического руководства повысить стабильность режима за счет «покупки» элит;
-
в) экономически неэффективной практикой.
Еще одну оригинальную концепцию рассмотрения коррупции представляет С. Кордон-ский [4]. Согласно его концепции, современное российское общество не может рассматриваться как промышленное (в терминологии Г. Спенсера) или как классовое (в ключе марксистской теории), таким образом, к нему не применимы те подходы и та социальная критика, с помощью которых описываются западные общества. С. Кордонский, основываясь по большей части на системном анализе действующего на территории РФ законодательства, утверждает, что российское общество в данный момент представляет собой смешанный тип с существенными элементами сословной организации. При этом сословие понимается им специфическим образом.
С одной стороны, он понимает его вполне в духе исторической традиции как «социальную группу, которая занимает определенное положение в иерархической структуре общества в соответствии со своими правами, обязанностями и привилегиями, закрепленными в законе и (или) передаваемыми по наслед- ству» [4, с. 26]. С другой стороны, в качестве основных и значимых для определения сословия внешних признаков он выделяет: особую внутрисословную иерархию, жаргон, наличие особой одежды, знаков различия и тому подобное. Данное понимание существенным образом роднит «сословие» в рамках его концепции с закрытыми социально-профессиональными группами классической социологической теории.
Иерархия «сословий» выстраивается по основанию значимости. С. Кордонский утверждает, что «можно сказать, что реальная значимость сословия определяется общим объемом осваиваемых им ресурсов, который складывается из:
-
– ресурсообеспечения титульной деятельности;
-
– ресурсов, получаемых при их корпоративном распределении, на обеспечение других видов служений;
-
– сословной ренты» [4, с. 89].
Сословная рента как раз и представляет собой особый источник дохода от иных социальных групп, которые не обладают признаками сословности, либо находятся на более низкой ступени иерархии сословий, то есть как явление, которое в отношении классовых (промышленных обществ) называется «коррупцией». Таким образом, коррупция применительно к современной российской социальной действительности в теории С. Кодонского представляется элементом поддержания сословной справедливости, то есть поддержания межсословного мира и устойчивого социального порядка.
В этой связи показательной и принципиальной является разница между подходами С. Кордонского и Е. Лазарева. Оба исследователя понимают коррупцию как «норму» (в дюркгеймовском смысле этого слова, то есть как самовоспроизводящийся порядок), оба, используя разные аргументы, утверждают, что коррупция используется социальной системой (либо узкой группой политической элиты) для поддержания социального порядка. Но если Е. Лазарев концентрируется на том, что коррупция является экономически неэффективной, то есть он оценивает это явление в экономических категориях (что характерно для характеристики капиталистичес- ких / классовых / промышленных обществ), то С. Кордонский говорит о ее социальном назначении, открыто утверждая, что оценивать ее как явление противоправное или экономически неэффективное нельзя [4, с. 90].
Несмотря на разницу политико-правового и феноменологического направлений в исследованиях коррупции, их объединяет одно общее понимание коррупции как явления, кризисного для современных обществ. Наиболее лаконично эту точку зрения выразил С. Роуз-Аккерман, указавший, что коррупция – «это симптом, что что-то сломалось в государственном управлении» [20, p. 9].
В рамках данного подхода существует значимая опасность прийти к мнению о приемлемости коррупции как механизма поддержания социального порядка. В действительности результатом феноменологического и функционального подходов к исследованию коррупции скорее должно стать понимание того, что социальный порядок нуждается в мягкой модернизации, то есть либо в переходе к новой модели определения социальной справедливости (а именно к новой социальной парадигме, что является крайне долгосрочной перспективой), либо к новым механизмам распределения социальных благ в рамках сообществ.
Хотя в рамках данного подхода коррупция не всегда воспринимается в качестве негативного социального явления, в нем можно проследить четкие указания либо намеки на методы, использование которых позволит снизить распространенность коррупции. Наиболее подробно на них среди отечественных исследователей останавливается С. Кордонский.
Авторы ряда исследовательских работ (Е. Лазарев, С. Кордонский, Я. Кузьминов) используют при анализе коррупции пример борьбы с ней в Китайской Народной Республике, где и масштаб распространения, и объемы коррупционных сделок крайне высоки. Учитывая то, что жесткое репрессивное законодательство, направленное на предотвращение коррупционных сделок, не всегда является панацеей, направленной против проявлений коррупции политики, они предлагают ряд оригинальных методов борьбы с нею.
Так, С. Кордонский утверждает, что коррупция является злом не только в классовых обществах, но и нередко в сословных. При этом сущность коррупции сословных обществ состоит в том, что нарушается справедливость межсословных обменов социальными ресурсами. Он считает, что в рамках сословной организации единственным способом борьбы с таким негативным социальным явлением являются массовые репрессии, при которых «сажают на кол не отдельных представителей сословия, а все сословие целиком». «Без массовых репрессий расхищение ресурсов и их нецелевое использование превращаются в бедствие сословного общества и подрывают его основу – систему справедливого распределения» [4, с. 66]. При этом репрессии могут представляться не только в виде физического уничтожения или его угрозы гражданам, а в виде судебного преследования по закону, ограничения в правах, наложении штрафов на социально-профессиональную группу в целом (например, на представителей чиновничества исполнительных органов власти).
Очевидно, что более оптимальным способом является ликвидация специфической профессиональной ренты. Жестким вариантом является ликвидация репрессивными методами монополии на пользование корпоративной (профессиональной, «сословной» рентой). Наиболее оптимальным (в смысле «модернистским», современным) вариантом является замена профессиональной ренты перераспределением добавочного капитала с помощью рыночных механизмов, то есть допуск на рынок конкурентов действующей социально-профессиональной группы или внедрение рыночной конкуренции во внутригрупповое взаимодействие. По существу, данные механизмы позволят сохранить ресурс в социальном доступе (не исчерпывать его или не препятствовать доступу к нему, как это, по сути, имманентно предполагают правовые схемы борьбы с коррупцией).
Например, в отношении силового ресурса возникает вопрос о том, какие структуры смогут обеспечить «рыночный» доступ к предоставлению силового ресурса. Согласно исследованию В. Волкова [1], ответ очевиден – альтернативу монополии правоохранительной государственной службы на силовой ресурс могут предоставить организованные преступ- ные сообщества или частные охранные предприятия и коллекторские агентства (полукри-минальная, а иногда и открыто криминальная деятельность которых нередко становится предметом внимания средств массовой информации). По понятным причинам указанное повышение конкурентности предоставления силового ресурса является противоречащим коренным государственным интересам, самой сути государственного управления. Сказанное справедливо и для всех «титульных сословий», то есть тех социально-профессиональных групп, которые относятся к силовым.
Существуют примеры, когда закрытые социально-профессиональные группы становятся участниками современных рыночных экономик. Часть исследователей полагает, что наиболее ярким примером такого процесса является медицинское сообщество, которое в значительной мере «срослось» с фармацевтическим и сформировало подобие «треста», обладающего монополией на сферу здравоохранения в обществе.
Если мы говорим о политической коррупции, способны ли чиновники найти себе иную ресурсную базу, так как «при исчерпании ресурсов и невозможности расширения ресурсной базы происходят фазовые изменения сословной структуры – революции разного масштаба, при которых одни сословия исчезают, другие формируются, но уже на иной ресурсной базе» [4, с. 38]?
Если согласиться с Кордонским, «…что сословия – а не классы – в России были, есть и в предвидимом будущем останутся основными элементами актуальной социальной структуры» [4, с. 37], то попытка разрушить их административную (медицинскую, образовательную, силовую или иную ренты) приведет не просто к ликвидации такого специфического способа предоставления социальных благ, как коррупция, но и к ощутимым издержкам со стороны всего общества. По сути, будет затруднена реализация значимых социальных функций такими социальными институтами, как медицина, образование, государственная гражданская и правоохранительная службы.
Исходя из сказанного выше, необходимо отметить, что оба направления имеют очевидные достоинства и проблемы применения.
Выбор между ними должен осуществляться на основании ответов на следующие вопросы:
-
1. С какими критериями необходимо подходить к оценке российского общества (как к постсовременному / современному / квазисов-ременному или иному типу общества)?
-
2. Каким является социальный порядок, транслируемый и воспроизводимый в современной российской действительности?
Нормативно-правовой подход предполагает, что российское общество является современным со всеми ключевыми признаками модернистского общества (секулярность, гуманизм, демократия и т. п.). Отсюда вытекает и нормативный образ государственного служащего (включая в эту группу работников «бюджетной» сферы) – идеальный бюрократ (в веберовском понимании), который четко следует закону, преследуя интересы общества. В этом случае коррупция – это патология, являющаяся следствием преступной мотивации, испорченности отдельных представителей (реже групп) бюрократии. Соответственно, для борьбы с коррупцией достаточно исключить их из бюрократической среды и заменить меритократами.
Функционально-феноменологический подход оставляет вопрос о том, к какому типу принадлежит российское общество, открытым. Утверждается совершенно точно, что применять нормативные требования обществ западного классического модерна в отношении России нужно крайне осторожно. Здесь норма понимается как распространенное явление, а не как нормативный идеал. На этом положении основывается разделение в этом подходе «неформальности» («informality» – «блата», «кумовства», «взяточничества», «сословной ренты») [18] и коррупции. При этом «неформальность» объявляется нормой или приемлемым исключением. Коррупция воспринимается как признак неопределенности типа российского общества. Решение проблемы коррупции здесь является более комплексным. В случае, если российское общество является традиционным, то коррупция – это нарушение лояльности, следовательно, надо карать нарушение обязательств перед высшим руководством страны. Если российский социум ближе к социалистическому, то оптимальной формой борьбы с кор- рупцией являются характерные для мобилизации репрессии. В случае, если российское общество все-таки трансформируется в сторону западного модернистского идеала, то «неформальность» надо принять допустимой издержкой становления рыночной экономики, а коррупция (как и в нормативно-правовом подходе) должна пресекаться по закону.
В исследовательском отношении функционально-феноменологическое направление представляется более предпочтительным, так как не ограничивает исследователя в выборе нормативного идеала, то есть позволяет самостоятельно определить критерии отнесения коррупции к норме или патологии. Но все-таки решение всегда остается за конкретным ученым.
Список литературы Коррупция как норма и патология (современное состояние исследования)
- Волков, В. В. Силовое предпринимательство: экономико-социологический анализ/В. В. Волков. -М.: Изд-во ГУ ВШЭ, 2005. -350 с.
- Дегтярев, А. Коррупционная основа административных барьеров/А. Дегтярев, Р. Маликов//Вопросы экономики. -2003. -№ 11. -С. 78-87.
- Дюркгейм, Э. Социология. Ее предмет, метод и назначение/Э. Дюркгейм. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.opentextnn.ru/man/id=4447 (дата обращения: 17.11.2015). -Загл. с экрана.
- Кордонский, С. Г. Сословная структура постсоветской России/С. Г. Кордонский. -М.: Ин-т фонда «Общественное мнение», 2008. -216 с.
- Кузьминов, Я. Тезисы о коррупции / Я. Кузьминов. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%F%2Fnagg.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F10%2FTezisyi-o-korruptsii-Kuzminov-YAI.doc&name=Tezisyi-o-korruptsii-Kuzminov-YAI.doc&lang=ru&c=564b26aca047 (дата обращения: 17.11.2015). - Загл. с экрана.
- Лазарев, Е. А. Коррупция и политическая нестабильность: институциональная перспектива/Е. А. Лазарев. -СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2010. -28 с.
- Мельников, В. Н. Противодействие легализации незаконных доходов/В. Н. Мельников, А. Г. Мовсесян. -М.: МЦФЭР, 2007. -532 с.
- Ослон, А. Кто мы?/А. Ослон//Кордонский, С. Г. Сословная структура постсоветской России/С. Г. Кордонский. -М.: Общественное мнение, 2008. -С. 7-16.
- Охот ский, Е. В. Коррупция: сущность, меры противодействия/Е. В. Охотский//СОЦИС. -2009. -№ 9. -С. 26-27.
- Роуз, Р. Достижение целей в квазисовременном обществе: социальные сети в России/Р. Роуз//Общественные науки и современность. -2002. -№ 3. -С. 23-38.
- Сидоров, А. И. Коррупция: и диагноз, и приговор/А. И. Сидоров//СОЦИС. -2008. -№ 2. -С. 111-117.
- Социологическая энциклопедия: в 2 т. -М.: Мысль, 2003. -Т. 1. -693 с.
- De Soto, H. The other path. The invisible revolution in the third world/H. De Soto. -N. Y.: Harper & Row, 1989. -271 p.
- Don g, B. Social n or ms an d cor r uption/B. Dong, U. Dulleck, B. Torgler//Proceedings of the European Economic Association and the Econometric Society European Meeting, Barcelona Graduate School of Economics, Catalonia, Spain/ed. by A. Ciccone. -Brisbane: Queensland University of Technology, 2009. -Р. 1-48. -Electronic text data. -Mode of аccess: http://eprints.qut.edu.au/48490/1/48490_dong_2010005260.pdf (date of аccess: 17.11.2015). -Title from screen.
- Heinzen, J. The art of the brube: corruption, law and everyday practice in the late stalinists USSR/J. Heinzen//The National Council of Eurasian and Eastern European Research. Title VIII program. -Seattle, 2007. -30 p. -Electronic text data. -Mode of аccess: http://www.ucis.pitt.edu/nceeer/2007_820-7g_Heinzen.pdf (date of аccess: 17.11.2015). -Title from screen.
- Kornai, J. The affinity between ownership forms and coordination mechanism: The common experience of reform in socialistic countries/J. Kornai//Journal of Economic Perspective. -1990. -№ 4. -P. 131-147.
- Ledeneva, A. Russia’s economy of favours: blat, networking and informal exchange/A. Ledeneva. -Cambridge: Cambridge University Press, 1998. -235 p.
- Ledeneva, A. The ambivalence of blurred boundaries: Where informality stops and corruption begins?/A. Ledeneva//Perspectives. -2014-2015. -№ 12. -P. 19-22. -Electronic text data. -Mode of аccess: https://www.academia.edu/11170738The_Ambivalence_of_Blurred_Boundaries_Where_Informality_stops_and_corruption_begins_Alena_Ledeneva (date of аccess: 17.11.2015). -Title from screen.
- Martinez-Vazquez, J. The tax reform experiment in transition countries/J. Martinez-Vazquez, R. M. McNab//National Tax Journal. -2000. -№ 53. -P. 273-298.
- Rose-Ackerman, S. Corruption and government: causes, consequences, and reform/S. Rose-Ackerman. -Cambridge: Cambridge University Press, 1999. -266 p.