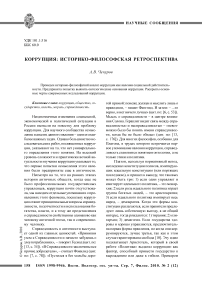Коррупция: историко-философская ретроспектива
Автор: Чечуров А.В.
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Научные сообщения
Статья в выпуске: 2 (12), 2010 года.
Бесплатный доступ
Проведен историко-философский анализ коррупции как явления социальной действитель- ности. Предпринята попытка выявить онтологические основания коррупции. Раскрыты основ- ные черты современных исследований коррупции.
Коррупция, общество, государство, власть, мораль, справедливость
Короткий адрес: https://sciup.org/14974387
IDR: 14974387 | УДК: 101.1:316
Текст научной статьи Коррупция: историко-философская ретроспектива
Неоднозначные изменения социальной, экономической и политической ситуации в России вынесли на повестку дня проблему коррупции. Для научного сообщества осмысление и анализ данного явления – одни из наиболее важных задач. Однако большинство исследовательских работ, посвященных коррупции, указывают на то, что нет универсального определения этого понятия. На высокий уровень сложности и практически вечной актуальности изучения коррупции указывает то, что первые попытки осмысления этого явления были предприняты еще в античности.
Несмотря на то, что на ранних этапах истории античных обществ, когда еще не было профессиональных государственных управленцев, коррупция почти отсутствовала, мы находим отдельные упоминания о проявлениях этого феномена, поскольку коррупция ставит принципиальные вопросы справедливости, подотчетности и использования богатства, власти, и к тому же представления о справедливости свойственны одинаково как человеку античной эпохи, так и современному человеку.
Справедливость в античности выступает одной из главных ценностей. «Приникни ухом к Справедливости и начисто забудешь о злоупотреблениях», – говорит Гесиод (цит. по: [13, с. 34]). «В Справедливости заключены все прочие добродетели», – считает Фокилид (цит. по: [7, с. 78]). «Пустился я без мольбы доро- гой прямой: понеже должен я мыслить лишь о праведном, – пишет Феогнид. И затем: – ...то верно, и нет ничего лучше» (цит. по: [6, с. 53]). Мысль о справедливости – в центре внимания Солона. Гераклит видит связь между справедливостью и несправедливостью – «невозможно было бы понять имени справедливости, когда бы не было обиды» (цит. по: [13, с. 176]). Для многих философов, особенно для Платона, в трудах которого встречается первое упоминание явления коррупции, справедливость становится понятием онтологии, а не только этики и политики.
Платон, используя нормативный метод, исследовал конституции полисов, имитирующих идеальную конституцию (или портящих последнюю), и пришел к выводу, что таковых может быть три: 1) если один управляет и имитирует идеального политика, – это монархия; 2) если роль идеального политика играет группа богатых людей, – это аристократия; 3) если идеального политика имитирует весь народ, – демократия. Когда эти формы конституции разлагаются, если правители преследуют лишь собственную выгоду, а не общий интерес, тогда рождаются: 1) тирания; 2) олигархия; 3) демагогия. Если государства здоровы и хорошо управляются, предпочтительна первая форма правления, но когда они коррумпируются, лучше третья, так как в этом случае гарантирована свобода [10]. Эту идею подхватывает Аристотель, который в своей работе «Политика» выделял коррупцию как фактор, способный привести государство к вырождению или даже к гибели. Примером такого процесса является превращение монархии в тиранию. Борьбу с коррупцией Аристотель считал основой обеспечения государственной стабильности: «Самое главное при всяком государственном строе – это посредством законов и остального распорядка устроить дело так, чтобы должностным лицам невозможно было наживаться» [1, с. 631]; «Только те государственные устройства, которые имеют в виду общую пользу, являются, согласно со строгой справедливостью, правильными» [там же, с. 639]. Аристотель, в частности, предлагал меру, которая могла бы быть эффективной и сегодня – запрет одному человеку в государстве занимать одновременно несколько должностей. Гораздо позже Гегелем было отмечено: «В Афинах существовал закон, предписывающий каждому гражданину отчитываться, на какие средства он живет; теперь же полагают, что это никого не касается» [4, с. 116]. Таким образом, можно сделать предположение, что в античной Греции некоторые рекомендации Аристотеля были воплощены в жизнь.
Немаловажным в рамках философского исследования коррупции представляется интерпретация Эпикуром права, закона и справедливости, которая в целом противоположна классической греческой, и прежде всего – тезисам Платона и Аристотеля. Объективный фундамент, ценность и смысл закона и права состоят в их полезности: с точки зрения Эпикура, государство теряет свое абсолютное значение, становится релятивным институтом, возникающим из простого договора ввиду его полезности. Из источника и венца всех высших моральных ценностей оно превращается в обычное средство охраны витальных ценностей, необходимое, но недостаточное. Справедливость обретает относительный характер, подчиненный полезности, поэтому, на наш взгляд, именно эпикурейская философия выделила из справедливости как этической категории понятие социальной справедливости.
В философии стоицизма происходит решительное разведение блага и зла – в одну сторону, и всего прочего как индифферентного – в другую. При помощи столь радикального разрыва стоики мыслили возможным исцеление общественных пороков своей эпохи, одним из которых являлась корруп- ция. Стоики считали, что источник зла в общем и коррупции в частности – крушение античного полиса, социальные и политические потрясения.
Из трудов времен заката эллинистической науки особо интересными представляются работы древнеримского философа Галена, полагавшего, что коррупция состоит: 1) в небрежении обязательствами, 2) ненасытной жажде денег, 3) лени и праздности духа. Пороки эти влекут за собой атрофию ума и воли. «Гении масштаба Фидия среди скульпторов, Апеллеса среди художников, Гиппократа среди врачей не появляются более по причине коррупции. Можно было бы весь остаток жизни посвятить применению полезного, открыть недостающее. И это была бы цель науки, но невозможно, считая богатство самой ценной из добродетелей, изучая и применяя искусство не на благо людей, достичь ее цели» (цит. по: [11, с. 262]).
В Средневековье интерес к коррупции был так же высоким. В этот период понятие «коррупция» приобретает исключительно церковное, каноническое значение – как дьявольский соблазн. В этот период завершалась инициированная отцами церкви и инквизиции борьба латинского языка с его греческими истоками, следствием чего явилась замена термина «катализ» (от греч. katalysis – разрушение, разложение, уничтожение) на латинский термин «коррупция». Этот термин означал бренность человека, подверженность разрушению, но не его способность брать и давать взятки. Коррупция в богословии католицизма стала проявлением греховности. После первородного грехопадения коррумпированной, то есть растленной и греховной, оказалась природа, в которой рождаются и живут люди. Наследственная греховная порча обычно рассматривалась как первопричина всех грехов (Блаженный Августин, Фома Аквинский).
Наряду с отцами церкви осознать коррупцию как социальное явление пытались и ученые эпохи Возрождения. Одно из самых коротких и емких определений коррупции дано Н. Макиавелли. Коррупцию Макиавелли определял как «использование публичных возможностей в частных интересах» [8, с. 286]. Мыслитель сравнивал коррупцию с недугом, который вначале трудно распознать, но легко лечить, а позже – уже легко распознать, но почти невозможно лечить. По Макиавелли, развращенному коррупцией народу крайне трудно остаться свободным. Падение Рима в значительной степени было обусловлено расцветом коррупции. Известны достоверные факты умерщвления римских императоров вследствие разложения армии. Однако далеко не со всеми суждениями Макиавелли можно согласиться. Например, он полагал, что в монархиях, правящих при помощи слуг, коррупция менее опасна, поскольку все слуги обязаны милостям царя и их труднее подкупить. В действительности же практика современных государств показывает, что чем больше «слуг государя» и меньше их жалование, тем легче их подкупить. Например, в наши дни значительная часть чиновничества оплачивается не за счет бюджета, а за счет незаконных вознаграждений.
Эпоха Нового времени, образование в Европе централизованных государств ознаменовали новый этап в развитии современного понимания коррупции. Коррупция стала восприниматься как серьезная общественная проблема, признак нестабильного общества. Прежде всего, смена оснований была связана с мощным развитием экономики, зарождением капитализма. Индустриализация привела не только к экономическому росту, но и к увеличению спектра общественного распределения и повышению значения властных решений. Политическая власть все более становилась товаром на быстро растущем рынке. Победившая буржуазия активно участвовала в коррумпировании высших должностных лиц, а зачастую и покупала государственные должности. Проблема коррупции освещалась в трудах просветителей-энциклопедистов: Ж.Ж. Руссо, Ш. Монтескье, Ф. Бэкона. Коррупция понималась ими как социальный порок, дисфункция общества. С точки зрения сторонников теории естественного права коррупция представляет собой одно из следствий расхождения между естественными и позитивными законами. Так, Т. Гоббс в своем знаменитом «Левиафане» писал: «Люди, кичащиеся своим богатством, смело совершают преступления в надежде, что им удастся избежать наказания путем коррумпирования госу- дарственной юстиции или получить прощение за деньги или другие формы вознаграждения» [5, с. 229].
Вторые же располагают к совместной жизни с окружающими, объединяют людей. Интересы эгоистические могут выродиться в алчность, тщеславие, черствость, враждебность или равнодушие к благосостоянию посторонних людей. Но именно таким может быть выбор индивида, и удовлетворение этого чувства будет представляться ему самодостаточным счастьем. Тут требуется, видимо, внешний критерий счастья, дабы продемонстрировать ложность такого эгоистического представления о счастье. Фергюсон избегает соблазна обратиться к заповедям Господа, поскольку следование им за потустороннее вознаграждение также можно истолковать как расчет. Тезис о том, что частный интерес, корысть – чуть ли не единственный мотив поведения, несостоятелен, поскольку и исторический опыт человечества, и сама стихия языка отторгают надуманные эксперименты со словами. Иначе говоря, Фергюсон отделяет политическую сферу от социальной и определяет коррупцию именно как явление, связанное с политикой и ведущее к политическому рабству.
Отдельно необходимо остановиться и на так называемом функциональном подходе к исследованию коррупции. Исследователи отмечают, что первым, кто ввел функциональный подход к коррупции, был М. Вебер, который сделал неоценимый вклад в формирование философского инструментария изучения многих социальных явлений и в том числе – коррупции. Для самого Вебера так или иначе характерен этический политеизм ценностей. Это не вынесение ценностных суждений и не признание абсолютных и безусловных ценностей. Речь идет, коротко говоря, о принципе выбора, устанавливающем направление поиска для причинного объяснения феноменов. У реальности нет границ, но исследователи интересуются лишь определенными явлениями и их аспектами. Скажем, феномен коррупции изучается постольку, поскольку он задевает наши культурные интересы, и наш познавательный импульс ориентирован на этот сектор реальности. Также Вебер сделал вывод о функциональности и приемлемости коррупции при условии, что она усиливает позицию элит, гарантирующих ускорение происходящих в обществе изменений [2]. Согласно воззрениям сторонников такого подхода (С. Хантингтон, Я. Тарковски и др.), выполнив свои политические и экономические функции, коррупция исчезает. Таким образом, помимо констатации функциональности коррупции, данные исследователи выделяют ее конструктивные функции.
Современное восприятие коррупции сформировалось в XX веке, когда постепенно происходит изменение отношения к справедливости, подотчетности и использованию богатства, власти. Нынешняя точка зрения, гласящая, что коррупция вредит развитию, еще несколько десятилетий назад не считалась очевидной. В 1960-е и 1970-е годы широко обсуждалась тема коррупции в странах третьего мира, но к единому мнению о том, как она влияет на развитие, так и не удалось прийти. Ряд ученых, не без влияния трудов М. Вебера, считали, что коррупция может быть даже полезна для развития общества. Так, Хантингтон отмечал, что коррупция может иметь положительный эффект, так как она снижает уровень насилия, вдобавок представляет собой один из механизмов адаптации к современности и имеет ан-тиреволюционный характер [14].
Р. Мертон на основе функционального анализа политического механизма США доказывал, что коррупцию невозможно рассматривать вне конкретного исторического, социального, экономического и политического контекста, в котором она существует, во многих случаях коррупция функциональна для развития общества [9].
В конце 1964 года Н. Лефф (N. Leff) из Колумбийского университета указывал, что коррупция может внести элемент конкуренции в самодостаточную монополистическую промышленность, и, таким образом, в систему оказывается, внедрена тенденция к эффективности [15].
В 90-е годы XX века отношение к коррупции стало меняться. Она стала восприниматься как серьезная общественная проблема, как социальный конструкт или социальное действие, детерминированное различными факторами. В настоящее время «наиболее распространена точка зрения, согласно которой на социальное действие комбинированно влияют природные, общественные и средовые факторы: индивид генетически предрасположен к определенным деятельностным проявлениям, которые в большей или меньшей степени формируются под воздействием социальной среды» [3, с. 17].
В 1993 году П. Эйджен создал организацию «Transparency International» («Международная прозрачность»), которая в 1995 году издала первый индекс восприятия коррупции. Опросив старших и опытных руководителей транснациональных компаний и согласовав их ответы с информацией из других источников, «Transparency International» составила рейтинг 53 стран мира. Эффект от публикации индекса коррупции был огромным. Большинство крупнейших газет мира перепечатали его со своими комментариями, на него начали ссылаться оппозиционные партии, он подвергся критике со стороны правительств. Но самым важным последствием стало убеждение общества в том, что появилась возможность сравнить коррумпированность тех или иных стран и проследить рост коррупции в конкретной стране. Подводя итог, можно утверждать, что существует функциональная зависимость между масштабом коррупции и интересом к исследованию данного социального явления. Эта связь проявляется тогда, когда коррупция достигает критической черты, а она сама и ее последствия осознаются обществом как социальная проблема. Общество начинает искать ответ на вопрос о причинах роста коррупции, пытаясь выработать практические меры борьбы, а точнее, контроля над ней.
Таким образом, историко-философская ретроспектива коррупции показала, что данный феномен относится к тем социальным явлениям, которые постоянно пребывают в центре внимания ученых, мыслителей, политиков, общественных деятелей. Еще Платон, Аристотель, Гоббс, Макиавелли высказывались по поводу коррупции, ее причин и социальных последствий. М. Вебер, рассматривая рациональную бюрократию как тип легитимного господства, не мог избежать оценки коррупции как функционального и приемлемого при определенных условиях явления. Отличительной чертой современных исследований коррупции является междисциплинарный подход. Коррупция становится пред- метом исследований не только юристов, криминологов и экономистов, но и философов, поскольку социальная философия имеет собственный, отличный от других дисциплин, научный инструментарий для анализа феномена коррупции. Коррупция – это явление, присущее социуму и имеющее длительную историю существования. Отсутствие систематизированных знаний о коррупции и мно-гоаспектность данного феномена указывает на необходимость сформировать теоретическую базу, которая сможет обеспечить глубокое исследование коррупции, что, на наш взгляд, невозможно сделать без комплексного социально-философского анализа проблемы.