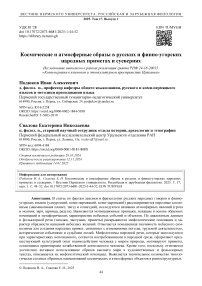Космические и атмосферные образы в русских и финно-угорских народных приметах и суевериях
Автор: Подюков И.А., Свалова Е.Н.
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Язык, культура, общество
Статья в выпуске: 1 т.17, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье по фактам лексики и фразеологии русских народных говоров и финно- угорских языков (удмуртский, коми-пермяцкий, коми-зырянский) рассматриваются народные космонимы (наименования планет, звезд и созвездий), исследуются названия атмосферных явлений (гроза и молния, заря, зарница, радуга). Выявляются мотивационные признаки, лежащие в основе образных номинаций и метафорических характеристик небесных событий и объектов. По диалектным данным и фольклорной речи (загадки, частушки, приметы) раскрываются мифологические основания и характер образности названий небесных явлений. Отмечается повышенная значимость небесного символизма для создания народных примет, связанных с изменениями погоды, трудовой деятельностью, историческими событиями и судьбами людей. Мифологизмы народной речи, которые используются при характеристиках непознанного, остаются востребованными в народной среде, оформляют предшествующий культурный опыт взаимодействия человека с миром природы, мотивируют приметы, остающиеся ориентирами хозяйственной деятельности человека. Кроме того, поскольку отмечается достаточно активное использование образов высшего мира в художественных и фольклорных текстах, описывается их мифопоэтический потенциал. Выявляется значительное количество типологически сходных образных наименований космических и атмосферных объектов в разноструктурных языках, прослеживается отражение в исследуемых номинациях особенностей этнического мировосприятия. Делаются выводы о высокой лингвокультурной насыщенности лексики и фразеологии, обращенной к небесной сфере.
Космоним, мифологизмы в языке, русский и финноугорские языки, символика примет
Короткий адрес: https://sciup.org/147251568
IDR: 147251568 | УДК: 81’28 | DOI: 10.17072/2073-6681-2025-1-44-52
Текст научной статьи Космические и атмосферные образы в русских и финно-угорских народных приметах и суевериях
Наименования небесных объектов и явлений привлекают внимание многих исследователей, при этом основное внимание обращается на кос-монимы - собственные имена отдельных небесных тел, галактик, созвездий. В трудах М. Э. Рут полно описан корпус народных космонимов русского языка, раскрыта их роль в формировании языковой картины мира [Рут 1987, 2010]. Тюркская космонимика, связанная с названиями созвездий, исследуется Л. С. Абсемиевой [Абсеми-ева 2019], К. Г. Ароновым [Аронов 1992]. В работах К. Г. Аронова подчеркивается, что названия небесных объектов являются частью лексического богатства казахского языка. Е. А. Айба-бина и Л. М. Безносикова раскрывают особенности структуры, специфику мотивационных признаков диалектных коми номинаций космических объектов, рассматривая их в сопоставлении с космонимами других финноугорских языков (по их наблюдениям, в коми названиях созвездий отчетливо выражена охотничья тема [Айбабина, Безносикова 2013]). Исследуются и финноугорские номинации отдельных небесных явлений -особенности номинации радуги в удмуртском языке [Зверева 2015], отражение в названиях радуги мифологических представлений коми [Па-нюков 2011; Цыпанов 2017].
Сопоставительный анализ космонимов разных языков (например, русского, английского и китайского [Михайлова 2014]) показывает, что названия небесных объектов отражают особенности этнического мировосприятия, несут в себе отпечаток не только мировой культуры, но и культуры своего народа. Высокую культурную окрашенность космонимов отмечает О. В. Ста-феева, рассматривая их функционирование в художественном тексте [Стафеева 2003].
В настоящей статье рассматривается прежде всего пермская диалектная лексика и фразеология, характеризующая звезды, созвездия и небесные события в народном восприятии (полевые материалы экспедиций в русские и коми-пермяцкие районы Пермского края). Знаки неба (падающие звезды, необычные по форме облака, свечения, напоминающие буквы или цифры) часто осмысляются как символы будущего, интерпретируются как мистические знамения. Анализ номинаций космических объектов и событий позволяет увидеть, как небо «управляет» жизнью людей: указывает на смену сезонов, очередность сельскохозяйственных работ, на грядущие исто- рические события и предначертанность человеческих судеб. Очевиднее всего знамения небес отражены в приметах, которые относят к сакральному жанру фольклора в связи с наделенностью их глубоким мифологическим подтекстом. Приметы, и особенно та их часть, которая обращена к небу и космосу, выступают как мифологические высказывания, содержащие некие жизненные правила, выраженные в иррациональной форме.
Объектам и явлениям внешнего мира, неведомым космическим силам в архаическом восприятии приписываются магические свойства, способность предвещать события и даже влиять на них: Перед войной был знак. Видели это старые старики. На небе видели как самолёты и золотые буквы «В». «Война, война будет!» - говорили » (с. Пож Юрлинского района Пермского края); Перед войной на небе облака шли как солдаты с ружьями, старые люди сказывали (п. Гайны); Перед афганской войной в воздухе везде столбы красные стояли. Девять столбов. А потом давай летать. Как ракеты. И так сейчас ребят наших жалко …» (г. Чернушка Пермского края) (ПМЦЭ). Необычные свечения в виде вертикальной полосы света на небе (речь идет о светящихся столбах, которые возникают, когда при высокой влажности резко опускается температура, то есть в воздухе появляются взвешенные столбовидные ледяные кристаллы) - распространенное оптическое явление, воспринимаемое архаическим сознанием как знак беды (количество столбов на небе даже воспринималось как указание на число военных годов).
Древнее отношение к небу, высшему миру заключается в представлении о космосе как живом организме или среде, находящейся в неразрывном единстве с человеком. Эта связь мира и человека отражена уже в самом названии мироздания Вселенная. Слово называет весь мир и одновременно представляет его как заселенный, обитаемый дом (ср. также образ неба-потолка в загадке о небе и звездах Синие потолочины золотыми гвоздями приколочены). Древний космический анимизм (А. В. Луначарский, работа «Антропоморфизм и гармония») лежит в основе массы метафорических выражений - солнце се-ло/встало, луна взошла, луна смотрит, облака бегут, небо плачет, «звезда с звездою говорит». Значительная часть образных номинаций объектов космической среды опирается на древнее уподобление реалий высшего мира обжитому человеком пространству. Небесные объекты и явления отождествляются с картинами земной жизни, земными реалиями, с тем, что окружает человека. Они предстают как предметы быта: основная часть созвездия Большая медведица носит народное название Ковш (то же в коми-пермяцком языке Кош ‘ковш’, в удмуртском Кобы Кизили ‘ковш звезда’). Млечный Путь (а также Большая медведица, Пояс Ориона) в разных русских говорах получает название Коромысло (ср. марийское название Ориона Вÿдварашÿдыр, букв. ‘коромысло-звезда’).
Как отмечает М. Э. Рут, русские и в целом славянские народные астронимы часто ориентированы на сельскохозяйственный быт [Рут 1987: 60]. В этом убеждают также фольклорные и поэтические образы неба как поля: загадка о небе и звездах На чёрном поле овцы разбрелись, строчки стихов Небо, как поле, засеяно звёздами (В. Константинов, «Небо, как поле…»), Небо-поле, расскажи о том, во что мир верит (Ю. Шевчук, группа ДДТ, баллада «Небо-поле»). С орудием крестьянского труда соотнесено в говорах Урала и Сибири название созвездия Пояс Ориона Кичиги (от кичига ‘примитивное молотило в виде изогнутой крюком палки’). В народных названиях звездного скопления Плеяды (одно из ближайших к Земле и одно из наиболее ярких созвездий) наглядно проявляется использование в основании народных примет образов хозяйственной деятельности. Плеяды в аграрной примете указывают на то, что с их появлением пришло время посева (выход Плеяд приходится на Юрьев день, праздник, с которого начинались работы в поле). В конце весны Плеяды исчезают и возвращаются на небо лишь в пору летнего солнцестояния, поэтому севернорусское название Плеяд Стожары соотносится также и с началом сенокоса (стожаром называют кол в центре стога для его устойчивости). Возможно, использование народных названий созвездия Плеяды Сито/Решето следует рассматривать как указание на приход времени осенних посевных работ. Эти названия (символически они представляли небо как подателя блага [Топорков 1985]) функционально связаны с инвентарем для просеивания семян; ср. также финское о Плеядах Seula «решето» [Петрич, Авилин 2023: 4]. Как известно, в древности с появлением этого созвездия связывалось наступление сезона навигации (слово Плеяды этимологически родственно древнегреческому глаголу plein «плыть») или сезона дождей (прихода ливней [Рут 1971: 154]). Возможно также осмысление названия Стожары как сложного слова - в связи с жар и сто, то есть как указание и на время жары, и на яркий свет звезд, ср. комментарий К. Паустовского: «Очень благозвучно и слово «Стожары»... Это слово, по созвучию, вызывает представление о холодном небесном пожаре («Плеяды и впрямь очень яркие, особенно осенью, когда они полыхают в темном небе, действительно, как серебряный пожар» (рассказ «Словари»)). Писатель в этом случае тонко уловил значимую в народной культуре идею «прорыва» на землю благодатного космического света.
Некоторые севернорусские названия-кос-мизмы образованы от зоонимов. Это обозначение Большой медведицы Лось, Конь [Афанасьев 1865: 606], Лошадь (архангельское; близко к нему удмуртское название созвездия Малая медведица Валйыр, букв. ‘лошадиная голова’), пермское Свинья о большом дождевом облаке, небесные коровы (стада) [там же]. Среди небесных названий встречаются также образы птиц, элементов рельефа Утиное Гнездо (Утичье гнёздышко; в пермских говорах также Соловьиное гнёздышко) для Плеяд (в кировских говорах это обозначение Малой Медведицы), Гусиная лапа созвездие Плеяды (Большая Соснова Пермского края) (ПМЦЭ), Горы для облаков [там же]. Ассоциативно с небом связано выражение, где использован образ кота: Кот плакал о редком природном явлении, когда на заре, перед восходом солнца выпадает роса (в этот момент на водной поверхности образуются круги, что воспринимается как предвестие бури) (СРЯ 1914: 2483). Выражение использовано Н. Лесковым (писателем, чей лексикон пронизан народными выражениями): На заре, перед восходом солнца, в этот день по воде озера, щурясь, то мигали, то расширяясь, то суживаясь, маленькие кружочки. Это называют будто «кот плакал» и считают за предвестие к буре (рассказ «Таинственные предвестия»). Достаточно экзотичный образ плачущего кота обыгрывает известную «способность» кошек предсказывать погоду и одновременно «объясняет» необычное природное явление, соотносясь с другими мифопоэтическими истолкованиями редких состояний природы. Аналогично мотив плача использован в характеристиках слепого дождя сироты плачут, солнце плачет, ведьма плачет, Бог (Богородица) плачет [Виноградова 2016: 353]. «Ненастоящий», в виде редких капель слепой дождь, как и редкие капли падающей росы, может быть приписан существам, соотносимым с верхним миром, обладающим магическими свойствами (неслучайно роса устойчиво определяется как Божья; сироты считаются людьми особого социально статуса, приближенными к богу в силу своей обездоленности [там же: 355]). Отметим также сохранение образов облачной (лунной) кошки, лунного кота в современной поэтической традиции (в том числе представление в виде кошки не только луны и солнца, но и радуги: Радуга испуганною кошкой спину выгибает в небесах (М. Безденежных); А за окном луна, как кошка (М. Грация); Солнце – кот, ты для души, Ты для нас свети, живи (И. Парамонова)). Поток света наступившего дня также ассоциируется с кошкой (как в пермской загадке о рассвете Серая кошка лезет в окошко). Образ плачущего кота в широком распространении обычно является шутливой оценкой чего-то крайне малого или незначительного - из соотнесения настоящего дождя и редких капель росы (ср. несколько иное осмысление выражения у А. Башлачева в стихотворении «Дым коромыслом»: Ох, безрыбье в речушке, которую кот наплакал). В народной традиции кот может быть наделен даром предсказания (например, в известной примете Кот чихнул – к вестям). Конечно, «профетические» свойства кота выведены из его способности глядеть не мигая, видеть в темноте. В целом же аналогия росы со слезами (как и примета После слепого дождя жди обильных дождей) отмечает повышение влажности в воздухе: вода редкими мелкими каплями начинает выпадать в осадок, потому что не может растворяться во влажной атмосфере.
Народная космонимия представлена антропонимическими образами солнца, луны, облаков, звезд, зари, радуги (орловское солнце зевает ‘о появляющемся и исчезающем в облаках солнце’, пермское солнце умывается ‘о солнце в дождь’, пермское юрлинское Солнце умыватся, это к теплу ), лунного или солнечного гало (диалектное пермское солнце в рукавицах, солнце с ушами , солнце в шапке , уральское чертовы рукавицы у солнца , бородатое солнце: Солнце зимой «бородатое», под ним пятно как радуга, это надо ждать морозов (Нытва Пермского края)) (ПМЦЭ). Рукавицы непосредственно указывают на близость холодов: коми тöлiсь кепися ‘ о светящемся кольце вокруг луны, что предвещает сильные морозы’: Тöлiсь кепися, так кöдзыт тöлнас. Этадзи сылöн, кепися кыдз тöлiсь / Луна в рукавицах, так будет холодно. У неё рукавицы будто, у луны», букв. ‘луна в рукавицах’ (с. Пуксиб Косинского района Пермского края) (ПМЦЭ) . Известно и название радужной зари Заря в рукавицах (Андрей Балдин «Московские праздные дни», 1997).
Любопытны редкие названия для облаков, вероятно, не лишенные архаических оснований типа пермского Дед с бабкой (выражение осмысляется как знак приближающегося дождя, то есть обозначает кучево-дождевое облако). Здесь образы покойных старших родителей ассоциативно связываются с архаичными представлениями о пребывании душ умерших на небе (ср. также в народной примете Покойные снятся к дождю). Образ девушки на медведе использован в костромском обозначении также дождевого облака Девка на медведе едет. В выражении объединены образы медведя и девушки (близкий образ облаков отмечен А. Н. Афанасьевым: облака как прекрасные полногрудые жены [Афанасьев 1865: 113]). Второй персонаж, медведь (известный как одно из воплощений бога растительности), здесь, скорее всего, соотносится с идеей плодородия.
Зарю называли женскими именами, учитывая в этом случае их христианскую символику: Мария / Маремьяна (реже Варвара, Прасковья ). В первом случае небесный свет зари обозначен именем Богородицы (для нее типичны красные одеяния, символизирующие предначертанность удела Пресвятой, ее Богоматеринство). Сходным образом красный (также и золотистый) цвет одеяний типичен для св. мученицы Параскевы, красный (киноварный) цвет одеяний на иконах (символ мученичества) характерен для св. Варвары. Атрибуты христианских персонажей отмечены в славянских названиях радуги ( Божий лук, Божий пояс, Богоричин пояс (Агапкина 2002: 401)), то есть небесный знак осмысляется как атрибут Божества.
Одно из мифологически осмысленных небесных явлений - гроза, часто воспринимаемая как голос бога, как проявление его силы. Название гроза, очевидно, родственное словам гром, греметь, давно используется и для обозначения гнева и божьей кары, и как образное представление страха, ужаса, и как благодать, живительная сила. Отсюда устойчивые представления о том, что трава весной появляется после первого грома, приметы типа Гроза в конце мая бывает к хорошему урожаю и сенокосу, Гроза в конце лета к сухой и тёплой осени (несильная первая гроза считается плохим знаком: Плохо погремит первый раз, дак и плохой год (д. Черная Юрлин-ского района Пермского края)) (ПМЦЭ). Особое отношение к грозе отражено в народном эвфе-мическом обозначении грозовой тучи синенький: Робьте пуще, вон синенькой идёт, замочит все сено (с. Карагай Пермского края) (там же). Гром считался карающей силой и одновременно проявлением заботы о людях: Долго нет грома – Бог забыл людей, будет тяжелая зима (с. Ножовка Частинского района Пермского края); Илья Грозный вскричал, грешим дак (д. Щипа Бардымского района Пермского края) (там же). Молния воспринималась в прошлом как божественный огонь, «видимый с земли свет верхнего неба, когда нижнее небо открывается» (Белова 2004: 280). Отсюда ее названия божья воля (нижего- родское, костромское), божья милость (ярославское, архангельское, томское), божья благодать (самарское, архангельское) [Верхотурова 2007: 87]. Она считалась проявлением доброго отношения Бога (страдания, которые она приносила, есть знак внимания Бога, способ вразумления грешника): Первый дом у нас сгорел от детской шалости, а второй от Божьей милости. Не надо было на погорелом строиться (д. Лидино Октябрьского района Пермского края) (ПМЦЭ). Распространено и предметное представление молнии - выпущенная Богом стрела: Грянуло, засияло на небе, стрела вылетела – загорелось от стрелы (соликамское). Чаще громовой стреле уподоблялся разряд молнии: Громовая стрела, вот пойдёшь в лес – как ударит, так и дерева нету (с. В. Мошево Соликамского района Пермского края) (там же). Широко распространено представление об огневой (громовой) стреле, камнеобразном сплаве продолговатой формы, образующемся от удара молнии в песчаную почву. Считается до сих пор, что так стрела поражает дьявола и лечит болезни, отводит опасности: Всяка болезнь и притча боится громовой стрелы (д. Верх-Меча Кишертского района Пермского края); Громовая стрела, её от суда хорошо. Со словами сделашь человеку, как оградишь, и не засудят (с. Калинино Кунгурского района Пермского края) (там же). Иной вид может иметь деревянная, в виде лучины громовая стрела у коми-пермяков (чарньoс, или чарöтöм пу, букв. ‘громовое дерево’): Чарöтöм пу, вот сiйöн жельнöг-нас чертитас, лыддяс. Чистöй паськöм пасьта-лас, кафтан и (ыжан?) лунöн лыддяс, лыддяс или би вылö, или вот кыт колö мыйöн, или турун вылö. Лыддяс и вот и лечитлiс сiйöн / Задетое молнией дерево, вот этой лучиной зачертит, наговорит (начитает), чистую одежду наденет, кафтан, и в Большой день начитает, начитает, или на огонь, или на траву (п. Мысы Гайнского района Пермского края) (там же).
Активно задействованы в приметах названия природных явлений, воспринимаемых особенно эмоционально и мистически. Это заря (цветное свечение неба перед восходом и после заката солнца), зарница (осенняя отдаленная гроза с молниями без грома), радуга (оптическое явление в атмосфере, которое наблюдается при освещении солнцем множества водяных капелек во время или после дождя). Многие из связанных с этими объектами приметы имеют логическое объяснение. Так, приметы Багровые зори к ветрам, Красная заря во все небо – к скорому ненастью, Утром встанешь, дозорка красная – вёдро будет (там же) объясняются тем, что при красной заре свет солнца на восходе и закате меньше рассеивается в атмосфере (проходит по каса- тельной бóльшую часть земной атмосферы) и поглощается аэрозольными частицами, делающими атмосферу менее прозрачной. Примета Заря недолгая – к ненастью связана с тем, что более плотные слои атмосферы перед дождем делают ее менее доступной для восприятия. Примета Тихая заря к хорошей погоде фиксирует внимание на безветренной заре нежно-розового цвета (такой заря бывает утром при отсутствии облаков на востоке, когда встающее солнце подсвечивает облака с противоположной стороны). Это исключительно красивое время, наполненное особым покоем и таинственностью, символически соотносится с вечностью. Показательно использование мотива тихой зари в любовных частушках: Ты играй, гармонь моя, сегодня тихая заря, тихая зориночка, послушай, ягодиночка (здесь магическое время для влюбленного гармониста - способ передать свои чувства и желания). В названии фильма С. Ростоцкого «А зори здесь тихие» образ зари вводит тему величия и спокойствия мироздания, красоты мира, особая ценность которой осознается на фоне ужаса и бессмысленности войны. Сочетание Тихая заря, отмечающее момент покоя и особой красоты мира, нередко используется как название пансионатов для пожилых (костромское), турбаз, баз отдыха (Волгодонск, Красноярск, Петрозаводск и др.).
Мистический характер носит удивительное по своей красоте небесное событие, беззвучная игра молний в конце июля - начале августа. Речь идет о зарницах, которые в народной традиции отмечают конец лета: Как зарёночки появятся, так и огурцы пора снимать (п. Суксун Пермского края); ср. коми примета Востымасьö – шондöдас , букв. ‘Зарницы полыхают – к теплу’ (там же). В разных культурах зарницы представляют космический акт магического воздействия небесного огня на хлебное поле. Считается, что своим светом они побуждают выспевать хлеба (на что указывают диалектные названия зарниц типа пермского хле-бозарка ). В Удмуртии (Якшур-Бодьинский район) в последнее время даже возрожден праздник зарниц «Ворекъян»: во время жатвы вечером идут любоваться зарницами ( ворекъяны ), воспринимая их как благословение богов.
Один из самых поэтичных фольклорных образов природы - радуга, появление ее на небе также воспринимается как момент воцарения в мире красоты и божественной тишины (одно из многих народных названий радуги - белорусское и украинское краса, красуля (Иванов, Супрун-Белевич 2018: 119)). Широко распространено верование, что радуга предвещает конец дождя и ясную погоду, откуда ее диалектные названия ясна, ясновка. Новгородской примете Радуга боле зелёная – жди дождичка (СРНГ 43: 267) соот- ветствует примета к дождю у народа коми Енöшкалöн медбура тыдалö зеленöй визьыс, лоас зэра луныс (букв. ‘Если у радуги больше всех видна зеленая полоса, то будет дождь: чем шире эта полоса, тем дольше будет идти дождь’) (ПМЦЭ). Основа ее – символическое восприятие зеленого цвета. В архаических культурах он был связан не просто с природой, а с водой и дождем (ср. пермское диалектное название считавшегося особенно благодатным дождя после Троицы зелёный дождь). Конечно, главными для приметы являются законы оптики: зеленая полоса находится в центре радуги и при высокой влажности воздуха воспринимается более широкой.
Обычно приметы с радугой выражают положительные предзнаменования: Радуга перед ко-рошой погодой показывается (с. Коса Пермского края) [ПМЦЭ]. Позитивные характеристики радуги связаны с тем, что она символизирует связь между двумя мирами – земным и небесным, человеческим и Божественным [Зверева 2015: 95]. Соотносясь с Богом (по ней спускаются и поднимаются за водой ангелы, сидит, как на престоле, Бог), радуга известна как символ изобилия, урожая и плодородия (отсюда ее белорусское название богатка , разнообразные приметы типа Видеть радугу – к добру, Если долго нет радуги, будет неурожай (ср. болгарское: долгое отсутствие радуги означает, что дядо Господ сердится на людей ). Это явление устойчиво представляется в коми языках как имеющее мифический смысл: название oшка-мoшка объясняют через образ небесного водяного быка (= бога), который пьет воду и поднимает ее на небо (отчего затем бывает дождь). Cлово объясняют и как «бык с коровой» ( öш ‘бык’, мöс ‘корова’) [Панюков 2011]. Е. А. Цыпанов, считая эту версию народно-этимологической, говорит о том, что название радуги не связано непосредственно с названиями животных, и возводит первый его компонент к прапермскому обозначению водного источника *ös, а второй – к приписываемой явлению функции («воду пьющий») [Цыпанов 2017].
Примечательна двойственность семантики радуги: появление ее может означать и окончание дождя, и затяжное ненастье: Радуга появляется, а ты смотри: если левая сторона появилась, то не к добру, правая – к счастью (п. Гай-ны Пермского края) (ПМЦЭ). Эта двойственность ощущается также в приметах Утренняя радуга – к дождю, вечерняя к вёдру , Низкая радуга к дождю, высокая к хорошей погоде, Радуга поперек реки к ясну, вдоль – к сильному дождю (коми-пермяцкое Енӧжка ю пӧлӧн – зэрны пондас, поперег – мича лоас ) (там же).
Явление, следовательно, интерпретируется в ряде случаев просто как знак изменений (откуда ее псковское название знамя, знаменье). Амбивалентность радуги отражается и в ее названиях веселка и змея (вологодское (СРНГ 11: 303)), небесная змея (коми-зырянское). Способность ее причинять человеку вред менее выражена (ср. также запрет показывать на нее пальцем, купаться в том месте откуда она «пьёт» воду, чтобы не поменять пол – запрет, известный и русским, и коми: А oшка-мoшка воду, говорят, пьет. Туда не надо идти, может проглотить (Юсьвинский район Пермского края) (ПМЦЭ).
Отраженная в космонимах языковая модель мира имеет преимущественно антропологическую окраску, строится на переосмыслениях личных имен, соматизмов, названий бытовых предметов, орудий труда (реже зоонимов, деталей земного рельефа). Разнообразие аналогий для народных названий космических объектов и атмосферных явлений связано с тем, что архаическим сознанием небо понималось как зеркальное отображение земли, того, что есть на земле. Видимый, но непонятный, недоступный для человека высший мир в то же время воспринимался как предсказание событий, которые произойдут в будущем. Названия атмосферных событий и небесных объектов в своем образном строе хранят древние мифологические сюжеты, указывают на участие неба в жизни и деятельности человека. Небесные объекты и явления в языковом представлении часто выступают как ориентиры и самой экзистенции человека, и его практической деятельности. Высокая лингвокультурная насыщенность лексики и фразеологии, обращенной к небесной сфере, в своей совокупности воссоздает наглядно-чувственный образ космоса, отражает народное бессознательно-художественное видение мира.