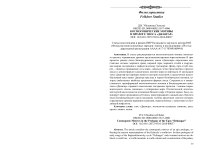Космогонические мотивы в прологе эпоса "Джангар"
Автор: Убушиева Данара Владимировна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Фольклористика
Статья в выпуске: 3 (46), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются космогонические мотивы эпического пролога, отражающие древние представления картины мира калмыков. В трех прологах ранних песен Багацохуровского цикла «Джангара» определены константные мотивы: мирового древа, мировой горы, мирового столба и сооружения дворца, восходящие к мифологическому трехмирию. Древо, гора, столб, дворец - символы отражающие «ось мира», довольно четко представлены в прологе цикла и демонстрируют классическое деление мира по вертикали. В калмыцком эпосе Джангар-хан априори является цен-тром вселенной и средоточием власти. Настоящий цикл являет Джангар-хана еще и героем богоборческих мотивов, которые свойственны наиболее архаичным формам эпоса. Сохранность и множественность трансформаций космогонических мотивов в Багацохуровском цикле эпоса «Джангар» отражает классическое построение прологов / зачинов тюрко-монгольских эпосов, связанных с сотворением мира. Отличительной, автохтонной чертой цикла является ассоциация Водного мира с Нижним миром. Здесь доминирует ареал проживания субэтноса, транслировавшего данный цикл. Прологи песен Багацохуровского цикла насыщены глубоко архаичным пластом мотивов, отражающим древние верования калмыков, переплетенные с элементами из буддийской мифологии.
Эпос "джангар", космология калмыков, символы, цикл, пролог, сюжет, мотив
Короткий адрес: https://sciup.org/149127090
IDR: 149127090 | DOI: 10.24411/2072-9316-2018-00037
Текст научной статьи Космогонические мотивы в прологе эпоса "Джангар"
«Мир фольклора составляется из безбрежного (впрочем, поддающегося, в конечном счете, систематизации и учету) множества мотивов, выражается через мотивы» [Путилов 2003, 183]. Вместе с тем, попытки вычленения мотивов из эпического повествования сопряжены с различного рода трудностями, поскольку «он трудноуловим и трудноопределим, неясно соотношение его синтагматических и парадигматических ракурсов, морфологической схемы и текстовой реализации, универсальных структур и национально специфических редакций, его корреляций с компонентами модели/картины мира, с одной стороны, и с «общими местами» текста, loci communes, с другой» [Неклюдов 2004, 236].
Достаточное внимание теории мотива в литературоведении и фольклористике уделено в работах И.В. Силантьева [Силантьев 1999, 2001]. В эпическом нарративе мотив также достаточно исследован. Е.М. Меле-тинским мотив рассматривается «как одноактный микросюжет, основой которого является действие. Действие в мотиве является предикатом, от которого зависят аргументы-актанты (агенс, пациенс и т. д.). От предиката зависит их число и характер» [Мелетинский 1983, 118]. Б.Н. Путиловым мотив определяется как «сочетание субьект-действие (состояние)-объект» [Путилов 2003, 190]. С.Ю. Неклюдов отмечает, что «мотив по природе своей парадигматичен; мотив является категорией содержательной (кстати, именно в силу этого мотив может быть переведен с языка на язык)» [Неклюдов 2004, 237]. В калмыцком эпосоведении отдельные мотивы ранее изучены А.Ш. Кичиковым [1974, 1978, 1997], Э.Б. Оваловым [2004], Н.Ц. Биткеевым [1990], Е.Э. Хабуновой [2006], Б.Б. Манджиевой [2002, 2010, 2012, 2013], Ц.Б. Селеевой [2006, 2007, 2008а, 2008b], Д.В. Убушие-вой [2007, 2010, 2011].
Е.М. Мелетинским рассмотрены мифологические мотивы «творения» [Мелетинский 1983, 118], С.Ю. Неклюдовым данные мотивы в эпическом зачине монгольского эпоса именуются мотивами «раннего времени» [Неклюдов 2010, 185].
В эпическом повествовании отдельно выделяются мотивы экспозиции. Пролог эпоса наиболее информативно отражает картину мира, поэтому и мотивы, содержащиеся в нем, дают важную информацию и служат кодами для расшифровки космогонических представлений этноса.
А.А. Дмитриева в эпическом зачине традиционного якутского олонхо вычленяет следующие сюжетные мотивы: эпического времени, сотворения мира, описания мира, природы, описания священного дерева, описания жилища, коня, внешнего вида богатыря, происхождения богатыря [Дмитриева 2007, 198].
Согласно исследованиям Б.Н. Путилова, пролог эпоса содержит комбинацию базовых повествовательных мотивов, которые можно объединить в блоки. Блоки мотивов выступают как целостные части сюжетов. За ними следуют новые блоки, и, таким образом, «сюжет движется не просто мотивами, а блоками мотивов, их сцеплениями» [Путилов 2003, 187]. С.Ю. Неклюдов выделяет четыре блока составляющих зачин монгольского эпоса: «расширяющаяся вселенная»; строительство дома героя; характеристика времени; место рождения героя [Неклюдов 2010, 193-194].
В текстах калмыцкого эпоса «Джангар» выделяются базовые повествовательные мотивы. Они прослеживаются на примере прологов трех ранних песен Багацохуровского цикла. Пролог цикла членится на следующую последовательность мотивов: 1.1. Гора, 1.2. Мировой океан, 1.3. Сооружение дворца, 1.4. Биографии богатырей, 1.5. Восхваление страны, 1.6. Мировое древо.
В прологе Багацохуровского цикла сохранены и переплетены несколько трансформаций мотива мирового древа. Внутри пролога выделяются константные мотивы: мирового древа, мировой горы, мирового столба и сооружения дворца, восходящие к мифологическому трехмирию. Данные символы являются космической опорой в мифопоэтическом сознании калмыков, ввиду чего сохранились в древнейшем словесном памятнике народа - в эпосе.
Одной из таких трансформаций является могучее древо, которое в мифологической модели мира является универсальным символом, объединяющим все сферы мироздания. В прологе цикла древо именуется Далай / Дамба Зули и отражает классическое деление мира по вертикали. Ветви древа находятся в пространстве тенгриев: I песня цикла - 12 (24) dalai zamban bicirani daibilxularan tabun tenggerin ayar tala [PO БВФ СПбГУ, Calm. C. 17. № 2, 1] / когда качаются ветви Далай Замбы в пространстве пяти тенгриев; II песня цикла - 38 (11) dalai zambin bicirni: sambal sugin (12) salkin-du dayibilaxadan: dalan tabun tenggerm ayar tala [PO БВФ СПбГУ, Calm. C. 17. № 2, 38] / когда ветви Далай Замбы качались на ветру Сам-бал в пространстве семидесяти пяти тенгриев; III песня цикла - 29 (3) dalai (4) zamban bicirani dalan tabun tenggerm (5) ayar tala sabsixudan [НА РГО. On. 1. P. 53. Д. 15, 29] / когда ветви Далай Замбы свисают в пространстве семидесяти пяти тенгриев. Много елейность Верхнего мира представлена согласно буддийской мифологии, в данном цикле отражены пять и семьдесят пять слоев неба.
Страна Бумба и ее обитатели находятся в Среднем мире, где произрастает ствол мирового древа: I песня цикла — 12 (23) dalai dunduni uryuqsan damba (24) zuli moduni [PO БВФ СПбГУ, Calm. C. 17. № 2: 12] / выросшее посреди океана дерево Дамба Зули; II песня цикла -38 (11) dalai dunduni uryuqsan damba zuli moduni [PO БВФ СПбГУ, Calm. C. 17. № 2, 38] / выросшее посреди океана дерево Дамба Зули; III песня цикла - 29 (2) dalai dunduni ur (3) yuqsan damba zuli modon [НА РГО On. 1. P. 53. Д. 15, 29] / выросшее посреди океана дерево Дамба Зули.
Дерево Дамба Зули произрастает посредине океана, соответственно корни его находятся в океане, который представляет Водный мир. Водный мир в настоящем цикле рассматривается как Нижний мир, это один из мотивов, связанных с женитьбой Джангар-хана.
Нижний мир, согласно буддийской мифологии, место обитания Эрлик хана: II песня цикла - 50 (23) erliq nomin xaani zasaqla (24) xarayad ertiti ayas xara tamin yorolduni: kokodoq kiten xara balcigm doto (25) roni kilencetu ulan xoraxo bolji torosu [PO БВФ СПбГУ, Calm. C. 17. N 2, 50] / на дне черного ада с расправой Эрлик-номин хана встречусь, в засасывающей холодной черной грязи перерожусь грешным красным червем. Упомянут и проход между Средним и Нижним мирами: II песня цикла - 45 (2) doro yazaryin angyasu yarad ireqseni cigi olji yada (3) b [PO БВФ СПбГУ, Calm. C. 17. № 2, 45] / Из расщелины Нижнего мира явившееся не могут найти.
Другая трансформация мотива трехмирия - гора. В прологе гора Орог Йондон Орза, являясь осью мира, трехчлена, на вершине ее обитают божества: I песня цикла -1(1) olon bum burxan tide dumduni udeleqsen: oroq (2) yondtin orza gele [PO БВФ СПбГУ, Calm. C. 17. № 2, 1] / множество сотен тысяч божеств в полдень пребывают в покое [на горе] Орог Йондон Орза, говорили; II песня цикла - 49 (12) bum naiman (13) tumun burxan udu dunda-ni udultiqsan oroq yondtin orza gele [PO БВФ СПбГУ, Calm. C. 17. № 2, 49] / восемьсот тысяч божеств в полдень пребывают в покое, [на горе] Орог Йондон Орза, говорили; III песня цикла -5(1) bum olon burxan tide dumduni udeleq (2) sen: oroq yondan orza gelei [НА РГО. On. 1. P. 53. Д. 15, 5] / множество сотен тысяч в полдень пребывают в покое на вершине [горы] Орог Йондон Орза, говорили.
Серединой является Серебристо-белая гора Арслангин Алтай, представленная в эпическом прологе как центр земли, «пуповина»: I песня цикла - 1 (2) arsalang altai monggon cayan ula: (3) yaraxu sara narani koldti yazar tenggerm kiystin bolod (4) mangxayad baydaq ju [PO БВФ СПбГУ, Calm. C. 17. № 2, 1] / серебристо-белая гора Арслангин Алтай под лучами восходящего желтого солнца, став пуповиной земли и небес, возвышается; II песня цикла - 49 (13) arsalaq (14) altai monggon cayan ulani: oraxu sara narani omno koldti yazaryin kistin (15) boloji mangxayad tiztiqdtibe [PO БВФ СПбГУ, Calm. C. 17. № 2, 49] / серебристо-белая гора Арслангин Алтай под лучами восходящего желтого солнца, став пуповиной земли, возвышается; III песня цикла - 5 (4) arsalaq (5) altai monggon cayan ulani: yaraxu sara (6) narani koldti yazarin kisin bolod mangxa (7) yad baidaq [НА РГО. On. 1. P. 53. Д. 15, 5] / серебристо-белая гора Арслангин Алтай под лучами восходящего желтого солнца, став пуповиной земли, возвышается.
Горы в Багацохуровском цикле делят эпическое пространство и в горизонтальном измерении. В цикле прослежены два топонима: Эркюлюкская серебристая гора Цаган и гора Алтай, являющиеся пограничными. На вершине первой горы богатыри несут караул, здесь же происходят встречи и схватки с антагонистами: I песня цикла -15 (22) eji (23) tigei yazartu: erktiltigm monngon cayan ulani oroi dereni ere (24) xoyor biyer tiztilcuku bol-nai [PO БВФ СПбГУ, Calm. C. 17. № 2, 15] / в безлюдной местности, на вершине эркюлюкской серебристой горы Цаган, произойдет личная встреча двоих. Вторая гора, называемая Алтай, является символом родных кочевий, богатыри воодушевляются, вспоминая о ней в трудные минуты боя или же устремляясь в родные кочевья: I песня цикла - 21 (5) omnosuni asar ulan xonngyor kelp baini: xadaq altai ulatei bi [PO БВФ СПбГУ, Calm. C. 17. № 2, 21] / на это гордый Алый Хонгор говорит: скалистая гора Алтай есть у меня.
К числу внешне статичных мотивов-описаний относится описание сооружения ханского дворца, который также ассоциируется с осью мира. Дворец, как и гора, находится в центре эпического пространства, что указывает на его сближение с космическим центром. С.Ю. Неклюдов так характеризует дворец Джангар-хана: «Мужское жилище, расположенное в центре вселенной, оно огромное, торчащее до неба, часто - многооконное и многоворотное, те. как бы открытое на все четыре стороны света» [Неклюдов 2005, 127]. В Багацохуровском цикле дворец ассоциируется с пупом земли и неба: II песня цикла - 50 (3) yaraxu (4) sara narni ztin oncoq koi doroni: yandeq altan ulan ara beldeni deldti (5) leqsen / saxar altan baisingni: sarin dorbon kyidyin dotoroni oron: yazar tengge (6) rin kisun bolod dtinggeji uziiqdebe [PO БВФ СПбГУ, Calm. C. 17. № 2, 50] / в левой стороне восходящего желтого солнца, на северном склоне горы Гандык Алтай сооруженный, дворец из желтого золота, входя [в круг] четырех желтых монастырей, став пупом земли и неба, величаво предстал. Дворец хана-антагониста также описывается как пуп земли и неба: II песня цикла - 42 (28) yaraxu sara narani ara koldiini yazarin kisiin bolji uziiqdebe [PO БВФ СПбГУ, Calm. C. 17. № 2, 42] / к северу от восходящего желтого солнца предстал, словно пуп земли и неба. Мотив сооружения дворца является неотъемлемой частью пролога и обнаруживается во многих тюрко-монгольских эпосах. В рассматриваемом цикле данный мотив имеет типологическое свойство и отмечен во всех трех прологах.
В калмыцком эпосе Джангар-хан априори предстает центром вселенной и средоточием власти. Он восседает на троне посреди дворца, выстроенного на склоне горы, которая является пупом земли и неба. Примечательно, что в Багацохуровском цикле сохранились архаичные бого- борческие мотивы, героем которых выступает Джангар-хан. В одной из песен описаны конфликт и победа над представителем Верхнего мира, а не неминуемая гибель героя, в отличие от более поздних эпических сюжетов. Джангар-хан сражается с богатырем Верхнего мира, тенгрием Бурхан Цаганом (букв.: божество белое), одержав над ним победу, отнимает у него суженую и делает ее своей ханшей: III песня цикла -18(11) mingyun eketei (12) xubilyayan sartuu tenggesm degU (13) reni yaredtilji tusad: tenggerm (14) kobtin buraxan cayani gi do Ion mingyun (15) batartaigini alaji orkod: gtisi (16) zambain ktiken arban dolon nasatai abxi (17) gerenzele xatan abci xatu keji (18) bolanai [НА РГО. On. 1. P. 53. Д. 15, 18] /тысячью видами перевоплощаясь, перепрыгнув через море Шарту, убив небесного юношу Бурхан Цагана и семь тысяч его богатырей, семнадцатилетнюю Герензел-хатун, дочь Гюши Замба, сделал своею хатун.
При этом четко обозначается, что Джангар-хан берет в супруги представительницу Водного мира: I песня цикла - 5 (29) naiman mingyan lubsarayan ezen gtisi zamban xani ktiken [PO БВФ СПбГУ, Calm. C. 17. № 2, 5] / Хозяина восьми тысяч лубсурга, дочь Гюши Замба-хана. В данном эпизоде отражены медиативные функции Джангар-хана. Являясь представителем Среднего мира и одержав победу над сыном Тенгрия, Джангар-хан берет в супруги представительницу Водного (Нижнего) мира, таким образом, объединяя все три мира, демонстрируя тем самым свою особенность и подтверждая свои медиативные функции.
В калмыцком эпосе богатырь Хонгор занимает особое положение. Он единственный из эпических богатырей, за исключением Джангар-хана, ассоциирующийся сказителем с серединой мира. Ассоциация богатыря Хон-гора с мировым столбом, пупом земли и неба говорит о его медиативных возможностях: I песня цикла -9(11) altai dotoro altan saixan (12) baxuna mini [PO БВФ СПбГУ, Calm. C. 17. № 2, 9] / в центре Алтая, золотой прекрасный столб мой; I песня цикла -21 (11) yaraxu sara narani koi dorki: (12) yazar tenggeriyin kiystin boluqsun [PO БВФ СПбГУ, Calm. C. 17. № 2, 21] / под лучами восходящего желтого солнца, ставший пуповиной земли и неба. Медиативные функции богатыря Хонгора отмечены Э.П. Бакаевой: «... Хонгор пользуется в качестве орудия огромным сандаловым деревом, вырванным с корнями. Этот чрезвычайно архаический мотив связан с его способностями передвигаться по сферам Вселенной» [Бакаева 2009, 31].
Множественность трансформаций мотива о трех мирах в Багацоху-ровском цикле эпоса «Джангар» указывает на поэтический дар древнего сказителя и обширные космогонические представления калмыков в целом. Древо, гора, столб, дворец - символы, отражающие «ось мира» и довольно четко представленные в прологе цикла, демонстрируют древнюю картину мира калмыков. Э.П. Бакаева отмечает: «В реальной жизни идея горы и центра мира проявляется в каждом из курганов ова. Обряд ова тэклЬн, проводившиеся на них, и обряды поклонения земле и воде Ьазр-усн тэклЬн близки по содержанию» [Бакаева 2009, 99]. Отличительной, автохтонной чертой Багацохуровского цикла «Джангара» является отражение Водного
(Нижнего) мира, отдельные моменты этой темы затронуты в настоящей статье; для выявления полной картины Водного мира в тексте Багацоху-ровского цикла «Джангара» требуется отдельное исследование. Что касается мотивов, представленных именно в прологе цикла, здесь подтверждаются слова С.Ю. Неклюдова: «... в зачине - независимо от степени его развернутости - начало эпических событий синхронизировано с этим мифологическим “ранним временем” (а не с исторической древней эпохой)» [Неклюдов 2010, 189]. Пролог Багацохуровского цикла насыщен глубоко архаичными мотивами, отражающими древние верования калмыков, с наложением буддийской мифологии.
Список литературы Космогонические мотивы в прологе эпоса "Джангар"
- Бакаева Э.П. Сакральные коды культуры калмыков. Элиста, 2009.
- Биткеев Н.Ц. Калмыцкий героический эпос «Джангар». Проблемы типологии национальных версий. Элиста, 1990.
- Дмитриева А.А. Указатель сюжетов и мотивов Вилюйского региона//Наука и образование. 2007. № 2. С. 197-200.
- Кичиков А.Ш. Баатрлг дуулвр «Җаңһр». Баатрлг дуулврин һарлһин, баг бөлгүдин, теднә һоллгч баатрмудын, утх багтаврин шинҗллһн . Элст, 1974.
- Кичиков А.Ш. Героический эпос «Джангар». Сравнительно-типологическое исследование памятника. М., 1997.
- Кичиков А.Ш. О тууль-улигерном эпосе (к постановке вопроса)//Типология и художественные особенности «Джангара». Элиста, 1978. С. 3-6.
- Манджиева Б.Б. К вопросу изучения мотивов калмыцкого героического эпоса «Джангар»//Основные тенденции развития алтаистики в изменяющихся мировоззренческих условиях: в 2 ч. Ч. 2. Горно-Алтайск, 2012. С. 120-123.
- Манджиева Б.Б. К вопросу о систематизации мотивного фонда калмыцкого героического эпоса «Джангар»//Новые российские гуманитарные исследования. 2013. № 8. С. 45.
- Манджиева Б.Б. Мотив натяжения лука как элемент эпического произведения//Материальные и духовные основы калмыцкой государственности в составе Рос-сии (к 360-летию со дня рождения хана Аюки). Элиста, 2002. С. 29-30.
- Манджиева Б.Б. Символика центра в описании эпической державы (дворец властителя, мировая гора)//Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. 2010. № 2. С. 60-63.
- Мелетинский Е.М. Семантическая организация мифологического повествования и проблемы семиотического указателя мотивов и сюжетов//Ученые записки Тартуского государственного университета. Вып. 635/отв. ред. З. Минц. Тарту, 1983. С. 115-128.
- Неклюдов С.Ю. Дворец хана Джангара: к типологии одного мотива//Исследователь монгольских языков. Элиста, 2005. С. 124-133.
- Неклюдов С.Ю. Морфология и семантика эпического зачина в фольклоре монгольских народов//Китай и окрестности: мифология, фольклор, литература: к 75-летию акад. Б.Л. Рифтина. М., 2010. С. 185-198.
- Неклюдов С.Ю. Мотив и текст//Язык культуры: семантика и грамматика: к 80-летию со дня рождения академика Никиты Ильича Толстого (1923-1996)/отв. ред. С.М. Толстая. М., 2004. С. 236-247.
- Овалов Э.Б. Типология мотивов и сюжетов в эпосе монгольских народов. Элиста, 2004.
- Путилов Б.Н. Фольклор и народная культура; In memoriam. СПб., 2003.
- Селеева Ц.Б. Мотив пира в структуре эпического сюжета (на примере синьцзян-ойратской и калмыцкой версий эпоса «Джангар»)//Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. 2008. № 3. С. 52-54.
- Селеева Ц.Б. Мотив тархая-паршивца в эпосе «Джангар» (на материале синьцзян-ойратской и калмыцкой версий)//Ойраты и калмыки в истории России, Монголии и Китая. Элиста, 2008. С. 58-65.
- Селеева Ц.Б. Мотив ультиматума и его формульная реализация в синьцзян-ойратской и калмыцкой версиях «Джангара»//Россия и Центральная Азия: историко-культурное наследие и перспективы развития. Элиста, 2007. С. 80-86.
- Селеева Ц.Б. Мотив условия в синьцзян-ойратской версии «Джангара»//Молодежь и наука: третье тысячелетие. Элиста, 2006. С. 169-174.
- Силантьев И.В. Мотив в системе художественного повествования: Проблемы теории и анализа. Новосибирск, 2001.
- Силантьев И.В. Теория мотива в отечественном литературоведении и фольклористике: очерк историографии. Новосибирск, 1999.
- Убушиева Д.В. Мотив магической неуязвимости: к типологии мотива (на материале песен Багацохуровского цикла «Джангара»)//Россия и Центральная Азия: историко-культурное наследие и перспективы развития. Элиста, 2007. С. 90-95.
- Миронов А.С. Влияние стилизаций В.П. Авенариуса на рецепцию героического эпоса в русском образованном обществе рубежа XIX-XX веков. Статья первая. "Книга о киевских богатырях"//Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2017. № 4 (78). С. 78-87.
- Убушиева Д.В. Мотивный фонд Багацохуровского цикла калмыцкого героического эпоса «Джангар»//Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. 2010. № 2. С. 63-68.
- Убушиева Д.В. Мотив преодоления водного пространства и преодоления пути посредством скачек (на материале песен Багацохуровского цикла калмыцкого героического эпоса «Джангар»)//Монголоведение. 2011. № 5. С. 302-308.
- Хабунова Е.Э. Героический эпос «Джангар»: поэтические константы бога-тырского жизненного цикла (сравнительное изучение национальных версий). Ростов-на-Дону, 2006.
- Миронов А.С. Концепт силы в системе ценностей русской былины//Вестник РГГУ. Серия: История. Филология. Культурология. Востоковедение. 2017. № 2 (23). С. 35-49.