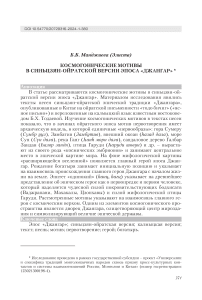Космогонические мотивы в синьцзян-ойратской версии эпоса «Джангар»
Автор: Манджиева Б.Б.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Проблемы калмыцкой филологии
Статья в выпуске: 1 (68), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются космогонические мотивы в синьцзян-ойратской версии эпоса «Джангар». Материалом исследования явились тексты песен синьцзян-ойратской эпической традиции «Джангара», опубликованные в Китае на ойратской письменности «тодо бичиг» («ясное письмо») и переложенные на калмыцкий язык известным востоковедом Б.Х. Тодаевой. Изучение космогонических мотивов в текстах песен показало, что в зачинах ойратского эпоса мотив первотворения имеет архаическую модель, в которой единичные «первообразы»: гора Сумеру (Сумбр уул), Замбатив (Замбутив), внешний океан (hазад дала), море Сун (Сун дала), река Ганг (ЬаHh мврн дала), сандаловое дерево Галбар Зандан (hалвр зандн), птица Гаруди (hаруди шовун) и др. - вырастают из своего рода «космических эмбрионов» и занимают центральное место в эпической картине мира. На фоне мифологической картины «расширяющейся вселенной» появляется главный герой эпоса Джангар. Рождение богатыря занимает инициальную позицию и указывает на взаимосвязь происхождения главного героя Джангара с началом жизни на земле. Эпитет «одинокий» (hанц, hагц) указывает на древнейшее представление об эпическом герое как о первопредке и первом человеке, который наделяется чудесной силой покровительствующих бодхисатв (Ваджрапани, Махакалы, Цзонхавы) и силой мифологической птицы Гаруди. Рассмотренные мотивы указывают на взаимосвязь главного героя с космическим верхом. Одним из элементов космогонического пространства является дворец Джангара, олицетворяющий центр мироздания и символизирующий величие эпической державы.
Эпос «джангар», синьцзян-ойратская версия, калмыцкая версия, текст, песнь, мотив, первотворение, герой, богатырь
Короткий адрес: https://sciup.org/149145259
IDR: 149145259 | DOI: 10.54770/20729316-2024-1-380
Текст научной статьи Космогонические мотивы в синьцзян-ойратской версии эпоса «Джангар»
Epic “Dzhangar”; Xinjiang-Oirat version; Kalmyk version; text; song; motif; first creation; hero.
Синьцзян-ойратская версия эпоса «Джангар» уникальна по своему содержанию, значительному объему, богатству и выразительности поэтического языка, сюжетно-композиционным особенностям, архаичным мотивам. Богатейший материал, собранный китайскими исследователями в последней четверти прошлого столетия в шести этнических группах среди торгутов, хошутов, олетов, чахаров, захчинов и урянхайцев, представляет эпическую традицию ойратов Синьцзяна и требует дальнейшего комплексного исследования.
Целью данной статьи является рассмотрение космогонических мотивов в песнях-поэмах синьцзян-ойратской версии эпоса «Джангар». Материалом исследования явились тексты песен синьцзян-ойратской эпической традиции «Джангара», опубликованные в Китае на ойратской письменности «тодо бичиг» («ясное письмо») [Жангар 1986–2000] и переложенные на калмыцкий язык Б.Х. Тодаевой [Джангар 2005–2008].
Изучение мотивов является одной из актуальных проблем в отечественной фольклористике и литературоведении. Исследованию теоретических вопросов мотива посвящены труды известных ученых: А.Н. Веселовского [Веселовский 1940], А.Л. Бема [Бем 1919], О.М. Фрейденберг [Фрейденберг 1997], В.Я. Проппа [Пропп 1928], А.И. Белецкого [Белецкий 1923], Е.М. Мелетинского [Мелетинский 1983], Б.Н. Путилова [Путилов 1975; 2003], С.Ю. Неклюдова [Неклюдов 2004] и др. В калмыцкой фольклористике в сказочной и эпической традиции некоторые архаические и сюжетообразующие мотивы рассмотрены А.Ш. Кичиковым [Ки-чиков 1976; 1992], Э.Б. Оваловым [Овалов 2004; 2008], Т.Г. Басанговой (Борджановой) [Борджанова 1981; 1982], Е.Э. Хабуновой [Хабунова 2006], Б.Б. Манджиевой [Манджиева 2022], Ц.Б. Селеевой [Селеева 2019; 2020], Д.В. Убушиевой [Убушиева 2018; 2019; 2020], Б.Б. Горяевой [Горяева 2022; 2023] и др.
Семантическому подходу в разработке теории мотива посвящены исследования А.Н. Веселовского, А.Л. Бема, О.М. Фрейденберг, в которых мотиву придается определенная автономность, указывается локальность его возникновения, определяется основа целостности мотива. В.Я. Пропп вводит принципиально иную единицу нарратива – функцию действующего лица. Е.М. Мелетинский предлагает рассматривать мотив как одноактный микросюжет, выделяя при этом его предикативность: «Под мотивом мы подразумеваем некий микросюжет, содержащий предикат (действие), агенса, пациенса и несущий более или менее самостоятельный и глубинный смысл, основой которого является действие» [Мелетинский 1983, 117]. С.Ю. Неклюдов отмечает, «что не только действие (постоянная величина сюжета) требует тех или иных персонажей-выполнителей (переменные величины), но и, с другой точки зрения, – значение функции (предиката) зависит от аргументов (“семантических ролей”)» [Неклюдов 2004, 242]. Б.Н. Путилов, основываясь на наблюдениях А.Н. Веселовского, сформулировал мотив как «одно из слагаемых эпического сюжета», уточнив, что «эпический мотив – это типовая формула, являющаяся специфическим средством реализации одного из типовых элементов эпического сюжетного арсенала» [Путилов 1975, 144].
Эпические песни-поэмы синьцзян-ойратской версии «Джангара», как и героические сказания тюрко-монгольских народов Сибири, начинаются с мотива первотворения, сказитель вводит слушателя в эпический мир и «имеет своей целью представление героя и хронотопа последующих событий (в такой почти не нарушаемой последовательности: время – пространство – герой)» [Неклюдов 2019, 131].
Время действия эпических событий определяется как «раннее (начальное) время». В зачинах песен синьцзян-ойратской традиции для обозначения ‘раннего времени’ джангарчи используют следующие формулы:
« Эрднин экн сән цагт һаргсн / ‘В драгоценное раннее прекрасное время рожденный’» (перевод здесь и далее автора статьи) [Джангар 2005–2008, I, 39];
« Эрднин экн цагт / ‘В драгоценное раннее время’» [Джангар 2005– 2008, II, 111];
« Кезәнә цагт болхла ... / ‘В стародавние времена...’» [Джангар 2005– 2008, I, 279];
« Эрднин экн цагт, / Эн Замбутивин туӊхн цагт ... / ‘В драгоценное раннее время, / ‘Этого Замбутива раннее время’» [Джангар 2005–2008, III, 57];
Аӊхн урд цагт / ‘Первоначальное раннее время’» [Джангар 2005–2008, III, 105];
« Эртни экн цагт / Эн Замбутивин туӊхн цагт ... / ‘В первоначальное раннее время, / Этого Замбутива раннее время’» [Джангар 2005–2008, III, 203].
Во всех приведенных примерах для обозначения времени сказитель использует слово цаг (время), которое определяется семантически ключевыми лексемами: эрднин (драгоценное), экн (начальное), эрт (раннее), сән (хорошее, доброе), кезәнә (давно), аӊхн (первоначальное), туӊхн (раннее).
В синьцзян-ойратской версии мотив первотворения имеет архаическую модель, в которой «основные компоненты мироздания вырастают из своего рода “космических эмбрионов”, вселенная расширяется, начиная с некоторой “нулевой отметки”» [Неклюдов 2019, 160]:
« Эн һалвин экн цагт, / Эн Замбутив туӊхн цагт, / Һазад дала чальчаг цагт, / Һалвр зандн нәәтг цагт / ‘Этой кальпы начальное время, / Этого Замбутива раннее время / Когда внешний океан лужицей был, / Когда дерево Галбар Зандан было кустом’» – «Бамин Улан Хоӊһр Дорӊһин Догшн Хар Маӊһсиг даргсн бөлг» («Песнь о том, как Бамин Алый Хонгор одержал верх над Свирепым Дорногин Хара Мангасом») [Джангар 2005–2008, II, 231].
« Сүмбр уул бултаҗ бәәгсн цагт, / Сүн дала шимәлтҗ бәәгсн цагт, / Һанһ мөрн дала чальчаг бәәгсн цагт, / Һалвр зандн модн бура бәәгсн цагт, / Һазад дала шимәлтҗ бәәгсн цагт, / Һанҗур улан эрг / Далң бәәгсн цагт /‘В то время, когда гора Сумеру только выпячивалась [из земли], / Когда океан Сун только образовывался, / Когда река Ганг была ручьем, / Когда дерево Галбар Зандан было кустом, / Когда внешний океан только появлялся, / Когда Ганджура красный обрыв / Невысоким холмом виднелся’» – «Увҗин Улан Хоӊһр Гелӊ Замбл хаанла бәәр бәрлдгсн бөлг» («Песнь о битве Увд-жин Алого Хонгора с ханом Геленг Замбал») [Джангар 2005–2008, II, 253].
« Һазад дала чальчаг цагт, / Һалвр зандн бура цагт, / Төөрә модн нәәтг цагт, / Тоть шовун җулҗуха цагт ... / ‘Когда внешний океан был лужицей, / Когда дерево Галбар Зандан было кустом, / Когда деревья вокруг были ростками, / Когда птица попугай еще птенчиком был...’» – «Җаӊһрин
Батхн баатр Эргү Йовн Уланыг даргсн бөлг» («Песнь о том, как богатырь Джангара Батхан одержал победу над Эргю Йовн Уланом») [Джангар 2005–2008, II, 111].
Архаическая модель мироздания ярко выражена в якутском олонхо, где первоначальное эпическое небо и земля также невелики по своим размерам: «лучезарно-белое небо, / подобно замшевому тангалаю (тан-галай – старинная парадная длинная женская одежда с узорами)» [Кыыс Дэбилийэ 1993, 75], «госпожа мать-земля моя, / величиной с пятку серой белки будучи, / расширяясь-растягиваясь, / разрастаясь, рождалась, <...> / растопыриваясь во все стороны, / постепенно увеличивалась, оказывается» [Якутский героический эпос 1996, 77–79].
В эвенкийском сказании «Дулин буга Торгандунин» («Торгандун среднего мира») мотив первотворения представлен описанием появления трех миров: «Давным-давно / Три мира появились / Подобно прислушивающимся ушам годовалого дикого оленя. / Когда средняя матушка-земля / Расстилалась как меховой коврик, / Верхний мир-батюшка виднелся как донышко берестяного короба» [Дулин буга Торгандунин 2013, 31]. В эвенкийской эпической традиции мифологическая эпоха начального времени выражена следующими формулами: в сказании «Гарпас-ма-та-Гарпанучан» – «Давно, давно, когда земля только становилась, когда небо-матушка подобно опрокинутому чуману было, жил один человек. Когда земля, словно ковер-кумалан, расстилалась, жил он, собирая ягоды. Появившаяся гора с холмик была, когда он жил, появившаяся река как ручеек была...» [Василевич 1966, 257]; в сказании «Умунду оскечэ Умус-ликон-мата» – «Когда земля только создавалась, / Когда реки только потекли, / Лиственница лиственницей только становилась когда, / Береза березой становилась когда, / Средняя земля расти начинала когда» [Сказания восточных эвенков 2004, 126].
Сходство схематичности описания компонентов мироздания в синь-цзян-ойратской, якутской и эвенкийской эпической традиции обусловлено культурно-историческим единством эпоса тюрко-монгольских народов.
В зачине синьцзян-ойратской версии «Джангара» представлены единичные «первообразы», которые занимают центральное место в эпической картине мира, таковыми являются гора Сумеру ( Сүмбр уул ), Замбатив ( Замбутив ), внешний океан ( һазад дала ), море Сун ( Сүн дала ), река Ганг ( Һанһ мөрн дала ), сандаловое дерево Галбар Зандан ( Һалвр зандн ), птица Гаруди ( Һаруди шовун ) и др.
Мотив мировой горы, которая, согласно буддийской космогонии, возникла первой из гор, представлен в зачине синьцзян-ойратской версии эпоса «Джангар». Являясь мировой горой, Сумеру занимает центральное место в эпической картине мира и объединяет все вертикальные сферы. «Мифическая гора из золота, возникшая в “великом внешнем океане” в начале сотворения мира, <...> на вершине Сумеру обитают 33 тенгриев во главе с Хормустой, покровительствуя земле и ее живым существам, подавляя своих врагов асуриев» [Джангар 1999, 255]. Как отмечает С.Ю. Неклюдов, «Сумеру бывает названа “золотой” и “драгоценной”, в чем тексты эпоса также следуют буддийским сочинениям, согласно которым она состоит из четырех драгоценностей: восточная сторона – серебряная, южная – лазуритовая, западная – яхонтовая, северная – золотая. Собственно, ее четыре стороны обращены на север, юг, восток и запад, она окружена четырьмя большими и восемью малыми “континентами” (санскр. двипа); из них южный, Джамбудвипа, является миром, обитаемым людьми. Ее омывают четыре моря, в буддийской космологии составляющие океан» [Неклюдов 2019, 155–156].
Если мировая гора представляет вертикаль эпического мира, то горизонталью являются «внешний океан» ( һазад дала ), «море Сун» ( Сүн дала ), «река Ганг» ( Һанһ мөрн дала ), обозначающие «первоводоем», «первозданные воды». В синьцзян-ойратской версии «молочное море» ( Сүн дала ) имеет признаки «мирового океана» и используется в зачине как «перво-объект». В буддийской космологии образ «внешнего океана» ( һазад дала ) представлен четырьмя морями, омывающими материк Замбутив, который в фольклорно-мифологических традициях монгольских народов осмысливается как средний мир.
Космогонические мотивы синьцзян-ойратской версии эпоса «Джан-гар» представляют архаическую модель мироздания, когда из «“космических эмбрионов” вырастает вселенная, появляются образы “первоводоема”, “первогоры”, “перворастения”, которые «переходят на иерархически более высокий уровень, получая статус изначального водяного хаоса. Адаптация понятия кальпа приводит к тому, что образ этого хаоса в свою очередь модифицируется, становясь формой уже не первичной, а промежуточной, открывающей очередную фазу существования вселенной и, соответственно, завершающей предшествующую фазу» [Неклюдов 2019, 161].
В синьцзян-ойратской версии «Джангара» на фоне мифологической картины «расширяющейся вселенной» появляется главный герой эпоса Джангар: « Төргснәсн нааран / Төр шаҗан алдад уга, / Һаргснасн нааран / Һазр усан алдад уга, / Ар Бумбин орни / Тәкл Зулын ач, / Таңсг Бумб хаани җич, / Үзң алдр хаани көвүн / Үйин өнчн Җаңһр гиҗ бәәҗ гинә. / ‘Со времени рождения / Державу и веру [власти своей подчинив,] не упуская, / С момента рождения / Владениями своими правя, / Северной Бумбы страны / Такил Зула[-хана] внук, / Тангсаг Бумба-хана правнук, Узюнга, славного хана, сын / В поколении своём одинокий Джангар жил, говорят» [Джангар 2005–2008, II, 111].
В зачине песен синьцзян-ойратской традиции «Джангара» «формула рождения богатыря часто занимает инициальную позицию и указывает на взаимосвязь происхождения главного героя Джангара с началом жизни на земле» [Хабунова 2006, 15]. Так, в песне-поэме джангарчи Шагджи Джав-нар «Хоӊһр Хошун Улан көвүтәһән хоюрн һурвн маӊһсиг даргсн бөлг» («Песнь о том, как Хонгор вместе с сыном Хошун Уланом одержал верх над тремя мангасами») повествование начинается с представления главного героя Джангара. Зачин этой песни состоит из родословной Джанга-ра, описания времени и места его рождения: «Тәкл Зул хаани жич, / Таңсг Бумб хаани ач, / Үзң алдр хаани көвүн / Үйин өнчн Жаңһр гинә. / Үйин өнчн нойн Жаңһрин / Төргсн цагини келвл, / Теңгр тевкин чинән цагт, / Һазр һул-мтин чинән цагт, / Сүмбр уул довң цагт, / Сүн дала чальчг цагт, / Һалвр зандн бура цагт, / Һаруди шовун дегдәмл цагт / Төргсн санҗ гинә. / Төргснәс наар / Төр шаҗан алдад уга, / Төрин олн хаани дунд / Нер цолан алдад уга. / Һаргснас наар / Һазр усан алдад уга, / Һалвин олн хаани дунд / Һан зөргни хәрәд уга, / Шаагсн һасан суһлад уга, / Шатагсн һалан унтраһад уга / Алдр Жаңһр гиж келдг. / ‘Такил Зула хана правнук, / Тангсаг Бумба хана внук, / Узюнга славного сын / В поколении одинокий Джангар, говорят. / В поколении одинокого Джангара / О времени его рождения говорят: / В то время, когда небо было величиною с распорку (тетивы лука), / В то время, когда земля была величиною с очаг, / В то время, когда гора Сумеру была холмиком, / В то время, когда океан Сун был лужицей, / В то время, когда дерево Галбар Зандан было еще кустом, / В то время, когда птица Гаруди была еще птенцом, / Родился, говорят. / Со времени рождения / Державу и веру [власти своей подчинив,] не упускал, / Среди множества ханов державы / Власть свою укрепил. / С момента рождения / Владениями своими правил, / Среди множества ханов кальпы / Смелость свою не убавивший, / Вбитый кол свой не вынувший, / Зажженный огонь свой не погасивший / Славный Джангар, так говорят’» [Джангар 2005–2008, II, 653].
Эпитет «одинокий» ( һанц, һагц ) указывает на «древнейшее представление об эпическом герое как о первопредке и первом человеке, характерном для эпоса тюрко-монгольских народов» [Кичиков 1992, 8]. Герой эпоса Джангар рождается в эпоху первотворения мира, он одинок, эпическая формула одинокости « һал деер һанц, һазр деер өнчн », по предположению Е.Э. Хабуновой, «унаследована от обрядовой традиции, согласно которой дух огня один (qagz; qanz). <...> Образ огня, утвердившийся в традиционной обрядности как гарант жизнеобеспечения и один из важнейших способов организации жизненного процесса, нашел свою реализацию и в эпической традиции» [Хабунова 2006, 28]. В зачине синьцзян-ойратской версии «Джангара» сохранилась эпическая формула « шатагсн һалан ун-траһад уга » («зажженный огонь свой не погасивший»), которая указывает, что только Джангар является хозяином и хранителем очага, обеспечивающим сохранность огня.
Д.В. Убушиева, рассматривая мотив одиночества в ранних циклах калмыцкого героического эпоса «Джангар», отмечает, что «эволюция древних сказаний о Джангаре как о герое-первопредке, пришедшаяся на пору кочевого скотоводческого быта, военных столкновений, привела к переходу от первоначального образа к герою-воину циклизованного героического эпоса» [Убушиева 2020, 60].
В ойратской эпической традиции главный герой Джангар наделяется чудесной силой покровительствующих бодхисатв: «Ора деерни Очрва-нин гегән илтген, / Маңна деерни Махһалын сид бүрлдгсн, / Зула деернь Зунквин гегән бүрлдгсн... / ‘Над [Джангаром] Ваджрапани сила была сосредоточена, / На лбу его Махакалы сила была сосредоточена, / На темени его Цзонхавы сила была сосредоточена...’» [Джангар 2005–2008, II, 231]. Кроме того, Джангар рождается наделенным силой мифологической птицы Гаруди: «Дал хоорндан Далн ха һарудин / Ид чидл бәрлдн төргсн, / Тиим сүркә күмн гиж келдг билә. / Хойр һарин һууртни / Хөрн хан һару-дин / Ид чидл бүрлдн төргсн, / Тиим сүркә күмн гиж келдг билә. <...> Үйин өнчн Жаңһр гиж келдг билә. / ‘Между двух лопаток его семидесяти ханов Гаруд / С силой он родился, / Таким необыкновенным человеком он был, говорят. / В двух руках его / Двадцати ханов Гаруд / С силой он родился, / Таким необыкновенным человеком он был, говорят. <...> В поколении своем одинокий Джангар, так говорят’» [Джангар 2005–2008, II, 231]. В данном мотиве прослеживается взаимосвязь главного героя эпоса с космическим верхом – он рождается наделенным силой птицы Гаруди, гнездящейся на гигантском древе Галбар Зандан, которое растет по ту сторону «Внешнего океана».
Мотив мирового древа Галбар Зандан (санскр. kalpavrksa ) встречается во всех национальных версиях эпоса «Джангар». Мировое древо Галбар Зандан объединяет Верхний, Средний и Нижний миры. Представления о священном древе восходят к буддийской мифологии, согласно которой Галбар Зандан обладает чудесными свойствами исцелять, оживлять, отгонять злых духов, исполнять желания. Так, в калмыцкой версии «Джанга-ра» в «Песне о том, как прославленный Улан Шовшур хана мангасов Свирепого Шара Гюргю покорил» Джангар, оказавшийся в Нижнем мире с раздробленным бедром, исцеляется с помощью листочков Галбар Зандан: « Негинь җаҗлад, ташадан өср[г]в – / Бүрлдәд одв. / Негинь җаҗлад идәд оркв – / Босад, гүүһәд һарв . / ‘Один [листочек], разжевав, к бедру приложил – / Кости срослись, / Ещё один листочек пожевал и съел – / На ноги встал, побежал’» [Джангар 2020, 360–361].
Д.В. Убушиева, рассматривая мотив мирового древа в Багацохуров-ском цикле калмыцкого эпоса «Джангар», отмечает, что «в прологе цикла древо именуется Далай / Дамба Зули и отражает классическое деление мира по вертикали. Ветви древа находятся в пространстве тенгриев. <...> Страна Бумба и ее обитатели находятся в Среднем мире, где произрастает ствол мирового древа. <...> Дерево Дамба Зули произрастает посредине океана, соответственно корни его находятся в океане, который представляет Водный мир. Водный мир в настоящем цикле рассматривается как Нижний мир, это один из мотивов, связанных с женитьбой Джангар-хана» [Убушиева 2018, 38].
Одним из элементов космогонического пространства является дворец Джангара, который связан с понятием центра. «Его ближайшие аналоги – храм и гора (причем гора, естественно, первичнее), и дело не только в циклопических размерах постройки. Горе (собственно, “мировой горе”) дом героя подобен своим серединным положением в эпическом космосе, “нулевой точкой отсчета” в его пространственной структуре, своей “осевой конструкцией” (от земли до неба). Поэтому он одновременно и координирован, и ассоциирован с горой, так сказать, состоит с ней в отношениях смежности и подобия, метонимии и метафоры: он и воздвигается на горе (на ее вершине или отрогах, у ее подножья), и сходен с горой» [Неклюдов 2019, 170–171].
В синьцзян-ойратской песне «Бөк Мөңгн Шигшрһ Жаңһрт эзн Шир-кин тавн сай нутгиг тушаҗ өггсн бөлг» («Песнь о том, как Бёке Мёнген Шигширги подчинил Джангару пять миллионов кочевий владельца Ширки») известного ойратского джангарчи Рампиля тема построения дворца хану Джангару схожа с калмыцкой версией и состоит из таких же элементов: 1) совет богатырей; 2) принятие решения воздвигнуть дворец; 3) подготовка материалов для постройки дворца; 4) мудрец Алтан Чеджи дает совет мастерам; 5) построение дворца [Джангар 2005–2008, I, 106–108]. Однако в калмыцкой версии отсутствует элемент под номером 3 – описание подготовки материалов для сооружения дворца, здесь сказитель показывает процесс работы мастеров над деталями ставки.
В прологе Малодербетовского цикла калмыцкой версии эпоса о месте воздвижения дворца Джангару сообщается следующее: « Шикрлүһин адг дунд, / Шилтә Зандн һолын цутхлңд, / Арта арвн хойр һолын цутхлңд, / Өргн Шарт далан көвәд, / Өндр маңхн Цаһан уулын / Довтлгч омрун дор / ‘На окраине долины Шикерлю, / В устье Шилтей Зандан реки, / У слияния подёрнутых рябью двенадцати рек, / На берегу широкого океана Шарту, / У высокой заснеженной горы Цаган’» [Джангар 2020, 44–45]. Как отмечает С.Ю. Неклюдов, «эта постройка имеет вид не дворца, а кочевой юрты со всеми ее конструктивными элементами (решетчатые стенки тэрэмы , поддерживающие верхнее покрытие жерди- унины ), правда, огромных размеров и сделанной из очень дорогих материалов» [Неклюдов 2019, 170]. Процесс построения жилища Джангару изображается в космических масштабах: во-первых, при ее возведении Бумба, океан и Замбатив грохотом наполнялись, во-вторых, согласно циклу Ээлян Овла, по совету провидца Алтан Чеджи дворец построили «на три пальца ниже неба».
В эпосе тюрко-монгольских народов подчеркивается высота жилища, так, в бурятском эпосе – «В небо упирающийся звездно-белый дворец, / Неба достигающий / Квадратно-белый дворец» («Осодор Мэргэн») [Кузьмина 2005, 289], в алтайском эпосе – «Девяностогранная каменная юрта <...> Верхняя часть ее в Верхнем мире» («Маадай-Кара») [Кузьмина 2005, 25], в шорском эпосе – «На тверди земли золотой дворец вознесся. <...> С верха его, [выше] трех небес, / Три бахромы спускаются» («Алтын Сырык») [Кузьмина 2005, 1125], в ойратском эпосе – « Алтн шар бам-благ бәрв. <...> Оран һурвн цонҗини / Оһтрһун көвкр көвӊ цаһан үүлнәс / Хойрхн хурһн тату бәргсн, <...> Арвн давхр, йисн өӊгин / Алтн шар бумбла / ‘Воздвигли злато-желтый дворец. <...> Три навершия его / Небесных белых кучевых облаков / На два пальца всего ниже воздвигли, <...> В десять ярусов, девятицветный / Злато-желтый дворец» [Джангар 2005–2008, I, 583], в калмыцком эпосе – « Оһтрһуд күргәд бәрхлә, / Ик дурн болх, / [Оһтрһуһас] һору дутуһар бәртн! – гиҗәнә [Алтн Чееҗ]. / ‘Если до небес вознеся, построим, / Накликать беду это может, / На три пальца ниже [неба] постройте! – сказал’ [Алтан Чеджи]» [Җаӊһр 1978, 362].
В героическом эпосе «Джангар» сохранились описания обе-регательной функции дворца: « Эзн, богдын / Бумбин күҗ зандн / Өргәһин өөр бәәсн / Замб тивд Бумбин орни / Җилв, бах, ширг / Ташр
һурвлаг / Көөн сөргәд, / Сай дунднь далван дарн бәәдг. / ‘Властителя, богдо / Бумбайский из благовонного сандала / Дворец, поблизости находящихся / Замбатива [других] бумбайских стран / Жажду захвата, их вожделённую цель и мор – / Все три нечистые страсти – / Отгоняя-прогоняя, Миллионы [подданных богдо ], словно крылом, укрывая, оберегает’» [Джангар 2020, 46–47], в цикле Ээлян Овла отмечается функция усмирения врагов: « Дуута Җаңhрин арвн давхр, / Йисн өңг алтн торлг бәәшң / Дөрвн талан / Дөчн йисн җилә хортн дәәсиг / Дарн, талван дүңгәhәд бәәв. / ‘Прославленного Джангара в десять ярусов / Девятицветный, золотистый взметнувшийся ввысь дворец, / В четырёх сторонах / На сорок девять лет врагов / Усмиряя, величаво возвышался’» [Җа һр 1978, 363].
«Эпический дворец Джангара является своеобразным полем притяжения, куда стекаются богатыри- нойоны , весь народ страны Бумбы. <...> Дворец, вокруг которого собрался многомиллионный народ, заполнивший долины восьмидесяти двух могучих рек, является центром и символизирует величие эпической державы» [Манджиева 2010, 60].
Таким образом, рассмотрение космогонических мотивов в текстах песен синьцзян-ойратской версии эпоса «Джангар» показало, что время действия эпических событий определяется как «раннее (начальное) время». В синьцзян-ойратской эпической традиции мотив первотворения имеет архаическую модель, в которой единичные «первообразы»: гора Сумеру ( Сүмбр уул ), Замбатив ( Замбутив ), внешний океан ( һазад дала ), море Сун ( Сүн дала ), река Ганг ( Һанһ мөрн дала ), сандаловое дерево Галбар Зандан ( Һалвр зандн ), птица Гаруди ( Һаруди шовун ) и др. – вырастают из своего рода «космических эмбрионов» и занимают центральное место в эпической картине мира. На фоне мифологической картины «расширяющейся вселенной» появляется главный герой эпоса Джангар. Рождение богатыря занимает инициальную позицию и указывает на взаимосвязь происхождения главного героя Джангара с началом жизни на земле. Эпитет «одинокий» ( һанц, һагц ) указывает на древнейшее представление об эпическом герое как о первопредке и первом человеке, который наделяется чудесной силой покровительствующих бодхисатв (Ваджрапани, Махакалы, Цзон-хавы) и силой мифологической птицы Гаруди, гнездящейся на гигантском древе Галбар Зандан, растущем по ту сторону «Внешнего океана». Рассмотренные мотивы указывают на взаимосвязь главного героя с космическим верхом. Одним из элементов космогонического пространства является дворец Джангара, олицетворяющий центр мироздания и символизирующий величие эпической державы. Рассмотрение космогонических мотивов в синьцзян-ойратской эпической традиции «Джангара» позволяют сделать вывод о том, что мотивы мировой горы, мирового океана, мирового древа, рождения главного героя реализуют космогоническую модель мироздания и занимают центральное место в эпической картине мира.
Список литературы Космогонические мотивы в синьцзян-ойратской версии эпоса «Джангар»
- Джангар. Малодербетская версия / сводный текст, перевод, вступ. ст., коммент., словарь А.Ш. Кичикова. Элиста: КалмГУ, 1999. 272 с.
- Джангар. Героический эпос синьцзянских ойрат-монголов: в 3 т. Элиста: Джангар, 2005–2008.
- Дулин буга Торгандунин = Торгандунин среднего мира / сост. А.Н. Мыреева. Новосибирск: Наука, 2013. 856 с.
- Жангар: в 3 т. Дунд улусийин ардын амн зокал урлгиг судлх ниигмлгин шинжангин уйгур эбээн засх оюни сала ниигмлигэс эмкэгдэлвэ. Урумчи: Шинжийан-гиин ардын кэвлэлин хора, 1986–2000.
- Җаңһр. Хальмг баатрлг дуулвр (25 бөлгин текст: 1–2 боть) = Джангар. Калмыцкий героический эпос (тексты 25 песен: 2 т.) / сост. А.Ш. Кичиков; ред. Г.И. Михайлов. М.: Наука, 1978.
- Калмыцкий героический эпос «Джангар»: Малодербетовский цикл / вступит. ст. Б.Б. Манджиевой; сверка текстов песен с оригиналом на «ясном письме» Б.Б. Горяевой, Б.Б. Манджиевой, Ц.Б. Селеевой; перевод Т.А. Михалевой; примеч., коммент., словарь, указатели Б.Б. Манджиевой, Т.А. Михалевой; отв. ред. Г.Ц. Пюрбеев, С.Ю. Неклюдов, В.В. Куканова. М.: Первая Образцовая типография, Филиал «Чеховский Печатный Двор», 2020. 544 с.
- Кыыс Дэбилийэ. Якутский героический эпос. Новосибирск: Наука; Сибирская издательская фирма РАН, 1993. 330 с.
- Сказания восточных эвенков / сост.: Г.И. Варламова, А.Н. Варламов. Якутск: СО РАН, 2004. 233 с.
- Якутский героический эпос. «Могучий Эр Соготох». Новосибирск: Наука; Сибирская издательская фирма РАН, 1996. 440 с.
- Белецкий А.И. В мастерской художника слова. Харьков: Научная мысль, 1923. 193 с.
- Бем А.Л. К уяснению историко-литературных понятий // Известия отделения русского языка и литературы Академии Наук. 1918. Т. 23. Кн. 1. С. 225–245.
- Борджанова Т.Г. Две записи ойратской эпопеи «Бум-Эрдэни» // Этнография и фольклор монгольских народов. Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1981. С. 19–26.
- Борджанова Т.Г. К вопросу изучения ойратской эпической традиции // Эпическая поэзия монгольских народов. Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1982. С. 106–115.
- Василевич Г.М. Исторический фольклор эвенков (сказания и предания). М.; Л.: Наука, 1966. 339 с.
- Веселовский А.Н. Историческая поэтика. Л.: Гослитиздат, 1940. 649 с.
- Горяева Б.Б. Мотив пути в калмыцких сказках, включающих сюжет ATU 300 The Dragon-Slayer // Oriental Studies. 2022. Т. 15. № 6. С. 1410–1421.
- Горяева Б.Б. Мотив превращения в калмыцких сказках на сюжетный тип «Чудесная птица» (AT 567) // Новый филологический вестник. 2023. № 3(66). С. 298–309.
- Кичиков А.Ш. Исследование героического эпоса «Джангар» (Вопросы исторической поэтики). Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1976. 156 с.
- Кичиков А.Ш. Героический эпос «Джангар». Сравнительно-типологическое исследование памятника. М.: Наука; Восточная литература, 1992. 320 с.
- Кузьмина Е.Н. Указатель типических мест героического эпоса сибирских народов (алтайцев, бурят, хакасов, шорцев, тувинцев, якутов): экспериментальное издание. Новосибирск: Издательство СО РАН, 2005. 1383 с.
- Манджиева Б.Б. Символика центра в описании эпической державы (дворец властителя, мировая гора) // Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. 2010. № 2. С. 60–63.
- Манджиева Б.Б. Текстология и поэтика Малодербетовского цикла эпоса «Джангар» в контексте эпической традиции калмыков. Элиста: КалмНЦ РАН, 2022. 416 с.
- Мелетинский Е.М. Семантическая организация мифологического повествования и проблема создания семиотического указателя мотивов и сюжетов // Ученые записки Тартуского государственного университета. 1983. Вып. 635. С. 115–125.
- Неклюдов С.Ю. Мотив и текст // Язык культуры: семантика и грамматика. К 80-летию со дня рождения академика Никиты Ильича Толстого (1923–1996). М.: Индрик, 2004. С. 236–247.
- Неклюдов С.Ю. Фольклорный ландшафт Монголии: Эпос книжный и устный. М.: Индрик, 2019. 590 с.
- Овалов Э.Б. Типология мотивов и сюжетов в эпосе монгольских народов. Элиста: Джангар, 2004. 183 с.
- Овалов Э.Б. Сюжетно-стилевые традиции в эпосе «Джангар» и его версиях. Элиста: Джангар, 2008. 304 с.
- Пропп В.Я. Морфология сказки. Л.: Академия, 1928. 153 с.
- Путилов Б.Н. Мотив как сюжетообразующий элемент // Типологические исследования по фольклору. М.: Наука, 1975. С. 144–182.
- Путилов Б.Н. Фольклор и народная культура. СПб.: Петербургское востоковедение, 2003. 457 с.
- Селеева Ц.Б. Функционально-семантические особенности типических мотивов в сюжете синьцзян-ойратской версии «Джангара» // Новый филологический вестник. 2019. № 4(51). С. 53–64.
- Селеева Ц.Б. Средства создания эпического образа синьцзян-ойратской версии «Джангара» // Oriental Stadies. 2020. Т. 13. № 5. С. 1465–1475.
- Убушиева Д.В. Космогонические мотивы в прологе эпоса «Джангар» // Новый филологический вестник. 2018. № 3(46). С. 35–45.
- Убушиева Д.В. Элементы архаики в эпосе «Джангар» // Новый филологический вестник. 2019. № 4(51). С. 73–81.
- Убушиева Д.В. Мотив одиночества в ранних циклах эпоса «Джангар» // Вестник Северо-Восточного федерального университета им М.К. Аммосова: Серия Эпосоведение. 2020. № 3(19). С. 55–62.
- Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра / подгот. текста и общ. ред. Н.В. Брагинской. М.: Лабиринт, 1997. 445 с.
- Хабунова Е.Э. Героический эпос «Джангар»: поэтические константы богатырского жизненного цикла (сравнительное изучение национальных версий). Ростов-на-Дону: Издательство СКНЦ ВШ, 2006. 256 с.