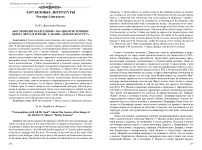«Космополит всей душой»: об одном источнике образа черта в романе Т. Манна «Доктор Фаустус»
Автор: Данилкова Юлия Юрьевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 1 (60), 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена сопоставлению двух диалогов с чертом - Ивана Карамазова и Адриана Леверкюна, героев «эпохи кризиса религиозного сознания». В ней предпринята попытка, с одной стороны, проанализировать концепции русского и немецкого писателя, их интерпретацию общих источников - народной книги и трагедии И.В. Гёте, с другой стороны, - проанализировать специфику диалога героя с чертом. Новизна работы заключается в исследовании специфики диалога, выступающего как часть нарратива и интертекстуального дискурса. Как показывает автор, отношение двух авторов к традиционным текстам было сложным и неоднозначным. Т. Манн придерживается в большей степени традиционной схемы о заключении договора, изложенной в народной книге, Ф.М. Достоевский по большей части отходит от нее. Возможно, Т. Манн и Ф.М. Достоевский обращаются к традиции гофмановских «двойников»: ведь оба диалога можно рассматривать и как монолог героев с самими собой. Оба героя страдают от противоречивого ощущения - присутствия «чужого» демонического начала внутри себя, в двух случаях образ дьявола оказывается сформированным не по традиционным канонам. В статье показано, что об образе Дьявола у Достоевского, равно как и Т. Манна, вряд ли можно говорить, как о вневременных фигурах, оба они историчны и связаны со своим временем. Автор статьи анализирует и общий для двух тексов мотив попытки экзорцизма, показывая отличия у Т. Манна и Ф.М. Достоевского. В отличие от трагедии И.В. Гете, у Ф.М. Достоевского и Т. Манна дьявол демонстрирует почти абсолютную власть над ними.
Ф.м. достоевский, т. манн, диалог с дьяволом, контракт
Короткий адрес: https://sciup.org/149139703
IDR: 149139703
Текст научной статьи «Космополит всей душой»: об одном источнике образа черта в романе Т. Манна «Доктор Фаустус»
Сюжет о контакте человека с Дьяволом, один из древнейших в мировой литературе, не терял своей притягательности для писателей и в XIX XX вв. Обращаясь к нему, как кажется, трудно быть оригинальным: предшествующая традиция «подсказывает» готовый набор мотивов. Один из возможных вариантов контакта с Дьяволом состоит в заключении с ним договора. Однако стоит отметить, что сама интерпретация сюжета о договоре с Дьяволом существенно меняется уже в XIX в. В прочтении И.В. Гёте договор больше напоминает не сделку, а пари и партнерские отношения на неопределенное время «до тех пор, пока Мефистофель не успокоит Фауста, не сможет привести его в состояние самодовольства, не обманет его, искушая наслаждениями, или же сам Фауст сочтет свою жизнь и деяния окончательно завершенными и сам не поставит им предел» [Аствацату-ров 2010, 95]. Налицо изменение концепции в сравнении с народной книгой: Фаусту предлагается самому определить момент окончания договора, тем самым подчеркивается его свобода. В драме-мистерии Д.Г. Байрона «Каин» сюжет о договоре и вовсе отсутствует: Люцифер предстает как в определенной степени alter ego самого Каина, испытавшего чувство неприятия Бога и готового поэтому к появлению Люцифера. Каин хочет получить от Люцифера знание, недоступное земным, но прямых ответов на интересующие его вопросы не получает. Отметим, что постепенно из литературы уходит или существенно модифицируется сам факт заключения договора.
Среди источников, оказавших влияние на формирование представлений о демонологии в «Докторе Фаусте» Т. Манна, можно выделить источники явные и скрытые, не названные в тексте автором. Отсылки к явным источникам присутствуют в самом разговоре Дьявола с Леверкюном: это сказка «Русалочка» Андерсена, гравюра «Меланхолия» Дюрера, сочинение Кьеркегора о моцартовском «Дон Жуане» и, безусловно, народная книга. Неявные источники напрямую не названы в тексте, тем не менее, в диалоге Леверкюна с Дьяволом совершенно явно проступают как следы концепций Ницше, так и полемики Т. Манна со своим предшественни-

ком - И.В. Гёте. Собственно, перечень этих источников огромен, как свидетельствует работа «История “Доктора Фаустуса”. Роман одного романа» [Манн 2008, 258-397]. Черт Т. Манна и национален, и космополитичен одновременно: «где я - там Кайзерсашерн», - заявляет он [Манн I960, 225]. При этом, согласно его заявлению, он «космополит всей душой» [Манн I960, 226]. Удивительно, что при обилии материала на данную тему в национальной традиции, Т. Манн не обходит вниманием роман со сходной проблематикой в русской литературе - роман Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». Интерес Т. Манна к творчеству Достоевского известен и подтвержден множеством свидетельств самого писателя, к которым мы еще будем обращаться. «Беседа Ивана Карамазова с чертом тоже входила в круг моего тогдашнего чтения», - свидетельствует писатель, описывая историю своей работы над романом [Манн 2008, 300]. Итак, цель нашей статьи будет состоять в сопоставлении двух диалогов с чертом - Ивана Карамазова и Адриана Леверкюна, героев «эпохи кризиса религиозного сознания», а также в попытке проанализировать концепции русского и немецкого писателя, их интерпретацию общих источников - народной книги и трагедии И.В. Гёте. Новизна работы заключается в исследовании специфики диалога, выступающего как часть нарратива и интертекстуального дискурса. Природа диалога понимается в духе концепции М.М. Бахтина, согласно которой герои, в частности романов Ф.М. Достоевского, всегда есть субъекты обращения для друг для друга: «о нем нельзя говорить, можно лишь обращаться к нему» [Бахтин 1979, 239].
Попытки подобного сопоставления, пускай и не детального, уже предпринималась как в отечественном, так и в немецком литературоведении [Русакова 1975; Пономарева 1991, 144-165; Павлова 1982, 30; Фридлендер 1977; Леман 2018]. В работе ГМ. Фридлендера «Достоевский и Т. Манн» дается подробный обзор основных вех восприятия Т. Манном идей Достоевского. По мнению исследователя, «Ф.М. Достоевский “модернизировал” черта, лишив его ореола величия и психологически сблизив с героем» [Фридлендер 1977, 157].
В работе «Житийный круг Ивана Карамазова» в основу сопоставления двух текстов положен жанровый подход. Различие концепций русского и немецкого писателя отдельно не рассматривается, но, согласно мнению исследовательницы, если роман «Братья Карамазовы» представляет из себя синтез таких жанров, как роман и житие, причем романная форма подчиняет житие как архаизм, сохраняя при этом одну из жанровых доминант жития - мотив искушения Ивана Карамазова собственными (и не только) идеями, то этого не происходит в романе Т. Манна, герой которого не выходит «на внебиографический уровень», оставаясь привязанным к конкретному времени и месту [Пономарева 1991, 165]. Именно мотив искушения как в житии, а не сделка или договор определяет специфику отношений между Иваном Карамазовым и чертом, по мнению исследовательницы. Действительно, присутствие темы искушения принципиально меняет отношение человека и нечистой силы, делая их из союзнических враждебными.
Как бы то ни было, «Фауст» И.В. Гёте был классическим текстом для читателя XIX XX вв., текстом, создающим определенную парадигму, традицию, которую можно принимать или спорить с ней. Поэтому, прежде чем перейти к сопоставлению сюжета о контакте с Дьяволом у Т. Манна и Ф.М. Достоевского, исследуем взаимоотношения двух авторов с этим текстом. Попытки исследовать эту тему также предпринимались в отечественном литературоведении. Опыты Ф.М. Достоевского и Т. Манна, скорее ориентированы, по мнению исследователей, и на народную книгу, нежели на трагедию И.В. Гёте, и «на поиск героев-философов» [Щенников 1996, 31]. Помимо эпизода невольной сделки с чертом, рассказ о путешествии Адриана Леверкюна к морским чудищам также стилизован под рассказ из народной книги [Павлова 1982, 23]. Неизвестно при этом, читал ли Ф.М. Достоевский народную книгу о Фаусте, вышедшую в 1587 г. во Франкфурте-на-Майне в издательстве Шписа, но о существовании легенды о докторе Фаусте он, по всей вероятности, знал [Щенников 1996, 19]. Таким образом, в своей интерпретации греха оба автора отходят от концепций Просвещения, отдавая предпочтение более раннему тексту.
Позволим себе предположить, что отношение к источникам, народной книге и трагедии Гёте более сложно, нежели просто отрицание одного и предпочтение другого. Трагедию «Фауст», безусловно, не стоит исключать из круга источников романа Ф.М. Достоевского. На первый взгляд, в романе «Братья Карамазовы» практически нет прямых отсылок к «Фаусту» И.В. Гёте. Черт в видении Ивана Карамазова, напротив, противопоставляет себя фаустовскому Мефистофелю: «Мефистофель, явившись к Фаусту, засвидетельствовал о себе, что хочет зла, а совершает лишь добро. Ну, это как ему угодно, я же совершенно напротив. Я, может быть, единственный человек во всей природе, который любит истину и искренно желает добра» [Достоевский 1991, 376]. По словам черта, он является Ивану не «в красном одеянии», как у Гёте, его черт предстает перед Фаустом «в одежде златотканой, красной, в плаще материи атласной» [Гёте 2004, 68]. Наконец, в пятой главе Иван Карамазов называет старца Зосиму «Pater Seraphicus». Этот факт может быть проинтерпретирован двояко: с одной стороны, фигура Pater Seraphicus, ведущего разговор с блаженными младенцами, появляется в пятом действии второй части трагедии Гёте, с другой - этим именем называли святого Франциска Ассизского, таким образом реплика Ивана Карамазова, возможно, и не отсылает напрямую к гётевской трагедии. Таким образом, черт Ивана Карамазова, скорее, открещивается от гётевской традиции. Тем не менее, в русском литературоведении прослеживается явная тенденция интерпретировать образ Ивана Карамазова как образ «русского Фауста» [Щенников 1996, 298-330]. Начало дискуссии на эту тему положил С. Булгаков, ее продолжил А. Луначарский. Стоит упомянуть и монументальную работу на эту тему, принадлежащую перу А.Л. Бема «Фауст в творчестве Достоевского» и вышедшую в 1937 г. в Праге.
При кажущемся отступлении от гётевского источника главное сходство героев состоит «в страстных поисках истины, в постоянном душевном беспокойстве, в непримиримом отрицании всего отжившего, в появлении дьявола как неизбежного спутника мыслителя-аналитика, в переживании трагического разлада между верой и неверием, наконец, в устремленности к Абсолюту» [Щенников 1996, 5]. Отсутствие стремления к действию также абсолютно не характерная черта для «русского Фауста»: в поэме «Геологический переворот» Иван так мечтает о деятельности свободного человекобога: «Ежедневно побеждая уже без границ природу, волею своею и наукой, человек тем самым ежечасно будет ощущать наслаждение столь высокое, что оно заменит ему все прежние упования наслаждений небесных» [Достоевский 1991, 378]. ГК. Щенникову принадлежит и важная мысль о том, что стиль общения черта с Иваном Карамазовым напоминает стиль Мефистофеля, переодетого в одежды Фауста и беседующего с учеником последнего: «здесь та же нарочитая путаница серьезных советов со скрытой насмешкой, ученого стиля с непристойными анекдотами, двусмысленными рекомендациями» [Щенников 1996, 27]. Этот комизм, иронический философский диалог явно имеет своим источником гётевского «Фауста». Ведь жанр гётевского произведения, определяемый как «трагедия», весьма спорен. По мнению исследователей, в «Фаусте» «гротескно переплелись черты комедии и трагедии» [Вельниц 2009, 105].
Именно сцена переодевания Мефистофеля в одежды Фауста заставляет говорить о сближении последнего с чертом, этот мотив окажется очень востребованным в романе «Братья Карамазовы». Иван Карамазов недаром с ужасом видит в черте свое второе «я», объективное присутствие даже в облике Ивана демонического начала отмечает и повествователь: «...брат Иван идет как-то раскачиваясь и что у него правое плечо, если сзади глядеть, кажется ниже левого» [Достоевский 1991, 340]. Эту странность замечает Алеша. Таким образом, при кажущемся отрицании традиции, взаимоотношение с ней оказываются у Достоевского не столь простыми, как может показаться.
Перейдем непосредственно к репрезентации темы демонического у Ф.М. Достоевского и Т. Манна. Оба романа апеллируют к разным жанрам: у Ф.М. Достоевского перед нами психологический роман с элементами детективного жанра, у Т. Манна - классическая модификация «романа о художнике», возникшего в XIX в. и получившего распространение на протяжении XX в. [Данилкова 2020, 302]. Как и Иван Карамазов, так и Адриан Леверкюн контактируют с чертом, находясь в состоянии болезни: Иван находился «накануне белой горячки», а мозг Леверкюна начал разрушаться из-за сифилиса, все это заставляет обоих воспринимать пришельца как бред и галлюцинацию, психоз, ведущий к раздвоению личности. Оба героя, ощущая инфернальное начало как часть себя, чувствуют, тем не менее, и присутствие чужого внутри себя, что для обоих особенно страшно. Адриан Леверкюн практически до конца своего диалога с чертом мучается от пронизывающего его насквозь холода, и это ощущение вторжения чу- жого начала делает его «беззащитным и голым» [Манн I960, 497]. Актерские же голос и выговор, по свидетельству Леверкюна, как бы призваны усилить дистанцию между героем и чертом. Ощущение полной чуждости при схожести мыслей собеседников есть и у Ивана, который стремится «откреститься» от своего двойника, и на помощь ему приходят традиционные народные представления, Иван говорит: «Раздень его и отыщешь хвост, длинный, гладкий» [Достоевский 1991, 382]. Иван также, как Ферапонт и Лиза, настаивает на неантропоморфности черта, в то время как Дьявол пытается убедить его в обратном: «ей-богу не могу представить, каким образом я мог быть когда-нибудь ангелом. Если и был когда, то так давно, что не грешно и забыть. Теперь я дорожу лишь репутацией порядочного человека, я живу как придется, стараясь быть приятным» [Достоевский 1991, 365]. В случае как Достоевского, так и Т. Манна можно говорить, скорее, о традиции двойников позднего романтизма, гофмани-анской традиции, а не традиции просветительской. Оба героя не верят с самого начала в объективное существование Дьявола, и в двух случаях Дьявол становится материальным воплощением мыслей героев: с Адрианом Леверкюном сделка была заключена помимо его воли, но когда ему «мучительно опостылел твой постылый ум» [Манн I960, 501], черт Ивана Карамазова, не обсуждая с последним вопрос об убийстве отца, заставляет его увидеть в нем двойника героя: «Почему душа моя могла породить такого лакея, как ты?» [Достоевский 1991, 377].
У Т. Манна в орбиту «демонического» вовлечены многие герои [Павлова 1982, 37]. Также и у Ф.М. Достоевского: отец Ферапонт признается, что видит чертей: «.. .матерой такой, аршина в полтора или больше росту, хвостище же толстый, бурый, длинный...» [Достоевский 1991, 224]. Лизе Хохлаковой «...иногда во сне снятся черти...» [Достоевский 1991, 301]. А Алеша Карамазов говорит Лизе: «А я в Бога-то вот, может быть, и не верую» [Достоевский 1991, 301]. Но философский диалог с чертом происходит лишь у Ивана Карамазова. Если Лиза и Ферапонт спасаются от чертей традиционным крестным знамением, то Иван поступает не совсем по-русски: подобно Лютеру, бросившему в Дьявола чернильницу, он бросает в Дьявола стакан. Вероятно, на создание образа Ивана Карамазова повлияла личность Лютера, склонность к галлюцинациям которого известна, а о борьбе его с Дьяволом существовали легенды [Жирмунский 1978, 279].
Вернувшись к вопросу об истоках образа Дьявола у Ф.М. Достоевского, скажем, что помимо «Фауста» и, предположительно, народной книги, исследователи называют ряд текстов 60-х гг. XIX в. В частности, О.Н. Со-лянкина возводит генезис образа Дьявола у Достоевского к образу Мефистофеля-нигилиста в публицистических статьях, указывая на синонимичность понятий «черт» и «нигилист» этого периода [Солянкина 2007, 114]. Под нигилизмом понимается «отрицание всех социальных ограничений и норм» [Солянкина 2007, 114]. Позволим себе предположить, что не столько пафос нигилизма, сколько дух иронии и насмешки, а подчас и откровенного издевательства определяет тон беседы черта с Иваном. По мнению
ГБ. Пономаревой, черт придает «издевательский смысл даже богоборчеству Ивана» [Пономарева]. Черт осмеивает все традиционные представления о бытовании Дьявола и сфере демонического, существовавшие когда-либо у человека: романтическо-просветительское - «воистину ты злишься на меня за то, что я не явился тебе как-нибудь в красном сиянии, “гремя и блистая”, с опаленными крыльями, а предстал в таком скромном виде [Достоевский 1991, 376], традиционно-народное - «моя мечта - воплотиться, но чтоб уж окончательно, безвозвратно, в какую-нибудь толстую семипудовую купчиху и всему поверить, во что она верит» [Достоевский 1991, 365], житийное, сам сюжет о спасении - «тебе оченно, оченно того втайне хочется, акриды кушать будешь, спасаться в пустыню потащишься» [Достоевский 1991, 374]. И в этом смысле о черте можно говорить, как о нигилисте. Отрицая все традиционные представления о демоническом, черт показывает, что страшная инфернальная сила находится внутри человека. И это самое страшное открытие Ивана. Недаром явление черта следует за тремя разговорами Ивана со Смердяковым, пытающегося заставить поверить Ивана в свою вину в смерти отца, объявляя его своим «учителем», а себя - лишь исполнителем его воли. Смердяков втягивает его в орбиту представлений о коллективной вине, делая себя «двойником» Ивана. Представление о всеобщем грехе, тем не менее, глубоко христианское, и те же идеи мы слышим из уст старца Зосимы. Святость и демоническое начало, таким образом, в мире Достоевского, казалось бы, близки на идейном уровне. Но это не совсем так. Если старец Зосима говорит о греховности всего человечества, проповедуя эту идею собравшимся, то Смердяков манипулирует сознанием Ивана, хотя из текста понятно, что убийство было совершенно Смердяковым не по наущению и не по идейным соображениям: он хотел воспользоваться деньгами и уехать за границу. Интересно, что именно Алеша стремится освободить Ивана от этих представлений «об одной на двоих вине», от жуткой власти двойничества: «Но убил не ты, ты ошибаешься, ты не убийца, слышишь меня, не ты!» [Достоевский 1991, 322]. Странно, что этот принадлежащий церкви человек ведет себя совсем не традиционно: не призывает покаяться, исповедаться и проч.
И тут можно говорить об еще одной важной черте в интерпретации темы отношений человека с инфернальной силой в послегётевскую эпоху: Фауст И.В. Гёте - личность со свободной волей, но лишь скованная, как любой из живущих, ограниченными способностями человека к познанию. Как бы то ни было, Фауст сам волен определить срок окончания договора. В случае с героями Ф.М. Достоевского и Т. Манна Дьявол демонстрирует свою власть над ними. Иван Карамазов, ощутивший след демонического в своей душе и зависимость от воли Смердякова, почти не в состоянии от нее избавиться. Дьявол Т. Манна, отступая от традиционного сюжета, изложенного в народной книге, проявляет свою власть над героем, ставя ему запрет - герой не может любить. Поэтому мы можем говорить и о мотиве нарушения запрета в романе Т. Манна «Доктор Фаустус».
К сказанному добавим, что о Дьяволе Достоевского, равно как и
Т. Манна вряд ли можно говорить, как о вневременных фигурах, оба они историчны и связаны со своим временем: демонические муки теперь связаны с угрызениями совести, вызванными «смягчением нравов». «Древний огонек-то лучше был», - заключает черт [Достоевский 1991, 372]. В случае Т. Манна черт подчеркивает свою принадлежность средневековой культуре. Но, как можно увидеть, это средневековье - фиктивное, средневековые декорации скрывают подлинный философский арсенал XIX XX вв.: идеи Ф. Ницше, С. Кьеркегора и прочее. Да и сам длительный диалог героя с Дьяволом восходит, скорее, к XIX в.: родоначальником этого приема можно считать Дж.Г. Байрона и его драму-мистерию «Каин». Бесспорно, и сам образ художника-преступника был продиктован восприятием Т. Манном личности Ф.М. Достоевского, к которому присовокупились рассуждения Ф. Ницше о природе творчества. В статье «Достоевский - но в меру», цитируя в том числе и работы Ф. Ницше, Т. Манн пишет так: «Мне кажется совершенно невозможно говорить о гении Достоевского, не произнося слова “преступление”» [Манн 2008, 244]. Очевидно, Ф.М. Достоевский стал для Т. Манна воплощением «гения как болезни и болезни как гения» [Манн 2008, 243].
Если у И.В. Гёте Фауст был, скорее, фигурой действующей, а не размышляющей, то у Т. Манна и Ф.М. Достоевского - наоборот, герои вступают с Дьяволом в длительный диалог, особенность которого у Достоевского заключается, как мы показали, в издевательском тоне черта по отношению к герою и насмешке над любыми традиционными представлениями о сфере инфернального. Вероятно, сама форма взаимоотношений героя с Дьяволом как диалога восходит к «Братьям Карамазовым». Рассмотрим его особенности.
Ироническая интонация по отношению к герою в «Докторе Фаустусе» неочевидна, однако, позволим себе предположить, что Дьявол, являясь Ле-веркюну в разных обличиях (за время разговора он меняется три раза), существенно дискредитирует идеи, которые сам излагает. Так, рассуждения о природе вдохновения, происходящего скорее от черта, нежели от Бога, имеющие своим источником работу Ф. Ницше «Рождение трагедии из духа музыки», высказывает «эдакий интеллигентик, пописывающий в газетах средней руки об искусстве, о музыке, теоретик и критик, который сам сочиняет музыку, поскольку не мешает ему умствование» [Манн I960, 502]. Слова о возвращении культуры к культу произносит некто, наделенный демонической наружностью: «его раздвоенная бородка двигалась вверх и вниз, а над открытым ртом, в котором виднелись маленькие острые зубы, так и топорщились сужавшиеся по краям усики» [Манн I960, 502]. Дьявол выступает как рационалист, рационально обосновывая необходимость своего дара.
Т. Манн придерживается более традиционной парадигмы фаустианско-го сюжета: здесь есть договор, время его действия - двадцать четыре года, соотносимое с временем в народной книге. Действительно, кажется, что лидирующее слово за этим средневековым источником, который оказыва-

ется не единственным упомянутым в двадцать пятой главе. Другим важным изобразительным «текстом» становится одна из самых загадочных гравюр А. Дюрера - «Меланхолия» (1514 г), вернее, ее художественная деталь - песочные часы. Согласно более поздним интерпретациям, фигура, изображенная на гравюре, не кто иной, как художник. Образ песочных часов появляется и в народной книге о докторе Фаусте: «Срок для Фауста приближался быстро, как на песочных часах» [Легенда о докторе Фаусте 1978, 95]. Таким образом Т. Манн компилирует два средневековых текста: элемент гравюры и народную книгу. Образ песочных часов - один из центральных в романе «Доктор Фаустус». После упоминания о них в беседе с Леверкюном черт переходит непосредственно к делу - к обсуждению условий сделки. В последней главе Леверкюн сознается, что «песочные часы у меня перед глазами» [Манн I960, 498].
Следует остановиться и на анализе другого общего мотива для двух текстов - так называемом мотиве экзорцизма. Поведение героев в этих сценах - сцене покаяния Леверкюна и Ивана Карамазова на суде - принципиально отлично, несмотря на то, что оба объявляют себя убийцами. Для Леверкюна существует только его личная вина - вина человека, заключившего договор с Дьяволом. Возможно, в этом представлении о личной вине и заключается главный обман Леверкюна Дьяволом. Ведь художник, согласно представлениям К.Г. Юнга, которые важны были для Т. Манна, воплощает коллективное бессознательное начало, а, значит, не может быть единственным виноватым.
Поведение Ивана Карамазова на суде во многом копирует поведение черта, являвшегося ему, он играет с публикой, интригует ее: «Я, ваше превосходительство, как та крестьянская девка... знаете, как это: “захоцу -вскоцу, захоцу - не вскочу”» [Достоевский 1991, 421]. Иван, в отличие от Леверкюна, обвиняет всех присутствующих, делает всех сопричастными преступлению: «Все желают смерти отца» [Достоевский 1991,421]. Таким образом, он транслирует мысль о «коллективной вине», высказанной еще Смердяковым.
В заключение нужно сказать, что Т. Манн придерживается в большей степени традиционной схемы о заключении договора, Ф.М. Достоевский по большей части отходит от нее. Возможно, оба автора обращаются к традиции гофмановских «двойников»: ведь их диалоги можно рассматривать и как монологи героев с самими собой. Герой Т. Манна, сочетающий в себе демоническое и художническое начало, будет воспринят и в дальнейшем немецкой литературой XX в. - уже в ироническом освящении - у Г. Грасса [Данилкова 2020, 297-307].