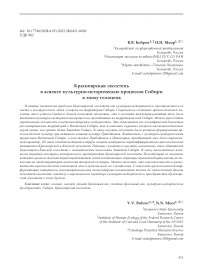Красноярская лесостепь в аспекте культурно-исторических процессов Сибири в эпоху голоцена
Автор: Бобров В.В., Моор Н.Н.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени
Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье поставлена проблема Красноярской лесостепи как культурно-исторического пространства и ее места в культурогенезе эпохи голоцена на территории Сибири. Современное состояние археологического изучения этого района Среднего Енисея позволяет заключить, что в мезолите тенденция развития здесь была идентична культурно-историческим процессам, проходившим на территории всей Сибири. Можно проследить определенную склонность к восточносибирским особенностям. Это объясняется как географической близостью рассматриваемых территорий к Восточной Сибири, так и наличием сырьевых ресурсов высококачественных пород камня, чем крайне бедна Западная Сибирь. В эпоху неолита лесостепь была центром формирования археологических культур при активном влиянии культур Прибайкалья. Взаимосвязь с культурно-историческими процессами Восточной Сибири, а если точнее Прибайкалья и Приангарья, приобретает уже более выраженный характер. Об этом свидетельствуют в первую очередь материалы стратифицированных археологических памятников Красноярской и Канской лесостепи. Начиная с развитого неолита, наметилась связь обитателей Красноярско-Канской лесостепи с неолитическим населением Западной Сибири. В эпоху палеометалла изменился характер культурно-исторического пространства Красноярской лесостепи. Последующий за неолитом историко-хронологический период представляет собой незаполненные страницы древней истории вплоть до появления на этой территории населения тагарской культуры. Можно полагать, что малочисленность и разнотипность археологических источников этого времени вовсе не случайность. Сложность хронологической дифференциации материалов, разнонаправленность инокультурных компонентов вплоть до эпохи поздней бронзы позволяют высказать гипотезу о маргинальном характере культурно-исторического пространства Красноярской лесостепи в эпоху бронзы.
Голоцен, неолит, ранний бронзовый век, поздний бронзовый век, культурно-историческое пространство, сибирь, красноярская лесостепь
Короткий адрес: https://sciup.org/145146440
IDR: 145146440 | УДК: 902 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0431-0436
Текст научной статьи Красноярская лесостепь в аспекте культурно-исторических процессов Сибири в эпоху голоцена
В истории археологической науки до статоч-но хорошо представлена взаимосвязь культурноисторического и географического пространства. Возможно, некоторые специалисты сочтут некорректным или даже ошибочным предположение, но, на наш взгляд, не случайно древнейшие памятники Сибири открыты на территории Горного Алтая, который находится вблизи маршрутов освоения Азиатского континента формирующимся человеком в восточном направлении. В археологии также представлены многочисленные географические регионы, которые явились центрами формирования и развития древних этнокультурных образований: например, бассейн Среднего и Нижнего Амура, Прибайкалье или, как сейчас принято называть, Байкальская Сибирь, Минусинские котловины, Барабинская лесостепь и др. Это отражение если не идеальной, то тесной связи культурно-исторического и географического пространства. Но немало примеров, когда происходил «сбой» в этой связи и только со стороны культурно-исторического пространства как явления социально обусловленного.
Пример такого «сбоя» на азиатской части России демонстрируют древности Саяно-Алтайского нагорья. Несмотря на длительный период полевых исследований и их масштабность, знания об эпохе бронзы Западных Саян (от единичных памятников энеолитической афанасьевской культуры до финальной бронзы – монгун-тайгинской культуры) практически отсутствуют. Что собой представляло культурно-историческое пространство в данный период, остается неясным. Возможно, что какие-то события произошли в сейминско-турбинский пе- риод, о чем свидетельствуют погребения чаахоль-ской культуры (окуневской – по В.А. Семенову). Но ее единичные памятники не дают даже приблизительной картины уровня содержания культурно-исторического пространства в пределах высокогорных долин Западных Саян. Отметим также то, что между сейминским периодом и финальной бронзой существует значительный хронологический промежуток, археологически пока незаполненный. На этом фоне разительно отличаются эпохи ранних кочевников и раннего Средневековья, в которых было сформировано плотное и содержательное культурно-историческое пространство. Практически идентичная ситуация сложилась на территории Горного Алтая. Исключение составляет период существования афанасьевской культуры, представленной в его районах двумя этапами развития вплоть до возникновения каракольской культуры, которая, на наш взгляд, относится к сей-минско-турбинской эпохе. Что же касается последующего историко-хронологического периода, то до настоящего времени затруднительно дать оценку культурно-историческим явлениям в пределах горно-алтайского географического пространства со своеобразной системой многочисленных речных долин. Только, как и в Западных Саянах, культурно-историческое пространство Горного Алтая начиная с I тыс. до н.э. формируют ранние кочевники скифского времени, затем хунно-сяньбийско-го периода и, наконец, объединения тюркоязычных народов [Тишкин, 2007, с. 79–235].
Если пример из археологии горных систем будет признан некорректным, то можно обратиться к Ачинско-Мариинской лесостепи (она территори- ально ближе к Красноярской лесостепи). Несмотря на то, что здесь выявлены памятники практически всех основных культур верхнеобского и среднеенисейского регионов, в историческом аспекте эта территория являлась транзитной [Бобров, 1992а; 1992б] до заполнения ее тагарским населением преимущественно в середине I тыс. до н.э. В данном случае культурно-историческое содержание этого географического пространства отличалось от других регионов, представлявших собой центры формирования и развития археологических культур. Примером может являться бассейн Верхней Оби.
В аспекте исторического и социокультурного пространства целесообразно также рассмотреть Красноярскую лесостепь, включающую территорию левобережной части р. Енисея в окрестностях г. Красноярска, и Канско-Рыбинскую котловину (Канская лесостепь). Археологически процессы развития в обоих районах были практически идентичные, что позволило специалистам объединять их термином Красноярско-Канская лесостепь). Отметим, что частичное разделение районов с исторической точки зрения носит очень условный характер, так как склоны Енисейского кряжа не являлись препятствием для древних популяций людей. За выделением двух районов в археологической литературе кроются недостаточная степень изученности конкретного историко-хронологического периода и в некотором роде корпоративность интересов научных центров.
Но вернемся к вопросу о том, какое место занимали Красноярская и Канская лесостепи в культурно-исторических процессах Сибири в древности. За 140 лет археологических исследований в этом крае однозначный ответ на этот вопрос получен для эпохи плейстоцена. Начало познания древностей здесь было заложено открытием и исследованием стоянок эпохи палеолита в черте г. Красноярска. В настоящее время эти знания пополняют материалы комплексов из раскопок Афонтовой Горы. Современные исследования палеолита Енисея – достойное продолжение археологической традиции, заложенной в конце XIX – начале XX в. специалистами Красноярского краевого краеведческого музея. В настоящее время нет сомнения в том, что в позднем плейстоцене бассейн Среднего Енисея являл собой регион объединения древних людей с самобытной традицией в области развития материальной культуры. С другой стороны, эпоха голоцена, а точнее историко-хронологический период от энеолита до поздней бронзы, Красноярской и Канской лесостепи остается малоизученным. Немногим лучше ситуация обстоит с комплексами эпохи поздней бронзы данного региона (см., напр.:
[Мандрыка, 2021]). Это актуализирует проблему места Красноярской лесостепи в аспекте культурно-исторических процессов Сибири в период энеолита – поздней бронзы.
Изучение периода раннего голоцена в Красноярской лесостепи и Канско-Рыбинской котловине позволяет сформировать общее представление о культурно-исторических процессах в этом географическом пространстве. Если исследованиями в 1970-х гг. экспедиции Иркутского государственного университета было сформировано представление о мезолите Канской лесостепи [Генералов, 2000, 2001], то мезолитические комплексы Красноярска в стратифицированных условиях исследованы сравнительно недавно, благодаря деятельно сти Н.П. Макарова. Опубликованные аналитические работы позволяют сделать вывод о том, что в переходный историко-хронологический период от палеолита к неолиту процессы в обозначенных районах были идентичными культурно-историческим процессам, происходившим на территории Сибири. Можно проследить некоторую склонностью к его восточносибирским особенностям. Это объясняется как географической близостью рассматриваемых территорий к Восточной Сибири, так и сырьевыми ресурсами высококачественных пород камня, чем крайне бедна Западная Сибирь.
В эпоху неолита взаимосвязь с культурно-историческими процессами Восточной Сибири, а точнее Прибайкалья и Приангарья, приобретает более выраженный характер. Об этом свидетельствуют материалы стратифицированных памятников Красноярской и Канской лесостепи, анализ которых дан в опубликованных работах Н.П. Макарова [2005], В.В. Боброва, Н.А. Савельева, А.А. Тимощенко [2016], А.Г. Генералова [1979] и др. Во-первых, к настоящему времени в них сформированы практиче ски одинаковые по количе ству и качеству фонды археологических источников, в том числе основанные на исследовании стратифицированных памятников. Отметим только более значительный состав таких памятников на территории Канско-Рыбинской котловины. Во-вторых, практически одновременно завершено обобщенное исследование неолита и бронзы на уровне археологической интерпретации. В частности, дана периодизация развития новокаменного века и характеристика материальных комплексов его этапов. В-третьих, исследования неолитических комплексов двух рассматриваемых районов проведены на общем теоретическом, методическом и методологическом уровне с использованием естественнонаучного междисциплинарного подхода. Это одно из непреложных условий сравнения результатов ис- следования. Изложенные выводы в теоретическом аспекте составляют платформу для объективного сравнения археологических комплексов, в данном случае двух сопредельных районов, относящихся к одной ландшафтной зоне. Особенно эта взаимосвязь выражена в керамических комплексах всех трех этапов развития неолита, в частности, сетчатом и посольском типе керамики. Казачинский тип с его элементами орнаментации западносибирской неолитической традиции не вписывается в предложенную тенденцию.
Приведенные историко-хронологические периоды демонстрируют то, что Красноярская лесостепь была не только освоена, но и входила в ареал культур в качестве одного из районов, составлявших центр их формирования. Созданный к современному столетию качественный фонд источников эпохи неолита позволил обосновать существование в данном регионе трех археологических культур [Бобров, Савельев, Тимощенко, 2016]. Неолит этих районов представляет также значительный интерес в связи с тем, что через эту территорию, на наш взгляд, шло проникновение, вероятно, небольших групп неолитических охотников вверх по течению Енисея к предгорьям, окружающим Минусинские котловины.
Небезынтересно то, что начиная с развитого неолита наметилась связь обитателей Красноярско-Канской лесостепи с неолитическим населением Западной Сибири. А ближайшими к ней являлись территории Кузнецко-Салаирской горной области, лесостепного и отчасти таежного Приобья. На эту связь неоднократно обращали внимание представители иркутской школы археологии, исследуя памятники и материалы Канско-Рыбинской котловины [Генералов, 1979; Савельев, Генералов, Абдулов, 1984; Тимощенко, 2013].
Последующий за неолитом историко-хронологический период представляет собой незаполненные страницы в древней истории Красноярской лесостепи вплоть до появления здесь тагарского населения, причем не на раннем этапе его существования. Соответственно возникает вопрос – что собой представляло культурно-историческое пространство данной территории в течение нескольких тысячелетий? Знания об эпохе бронзы Красноярской лесостепи незначительно изменились со времен первых исследователей древностей этого района – Г. Мерхарта, И.П. Сосновского, В.Г. Кравцова в начале XX в. В этот период Г. Мерхарт предложил объединить бронзы, преимущественно из случайных сборов, в «красноярскую культуру металла» [Merhart, 1926]. В последнее десятилетие некоторые специалисты возродили это понятие, но применительно к периоду поздней бронзы [Мандры-434
ка, 2021]. Из публикации тезисов П.В. Мандрыки невозможно проследить трансформацию культурного комплекса как ме стного, так и инородного в результате синкретизма традиций. И есть ли этот синкретизм? Понятно, что предлагаемая культура имеет карасукский облик [Там же, с. 86]. Но этот «инородный комплекс» соответствует заключительному этапу карасукской культуры – по М.П. Грязнову или лугавской культуры – по Н.Л. Членовой. Не касаясь анализа аргументации и логики сторонников красноярской культуры, а также теоретических вопросов, выскажем сомнение относительно ее обоснования. Тем более, что в качестве местного компонента предлагается традиция предшествующего времени. А то, что «предшествует», имеет очень аморфное и противоречивое содержание до современного этапа изучения Красноярской лесостепи.
Заметный вклад в решение этой проблемы внес Н.П. Макаров, который, несмотря на малочисленность и разнотипность источников, выделил и наполнил содержанием хронологический период ранней бронзы, существовавший до позднебронзового века [2005, с. 159–168]. Пожалуй, после публикации статьи Г.А. Максименкова [1961] это первая обобщающая работа древностей Красноярской лесостепи, но посвященная более раннему хронологическому периоду. Н.П. Макаров также выражает надежду на создание более реальной, а не условной, периодизации эпохи бронзы в будущем с выделением энеолита и периода развитой бронзы. Не лишен оснований его вывод о местной традиционной линии развития от неолита до поздней бронзы и линии, связанной с культурами Западной и Восточной Сибири, в результате миграций и взаимовлияния [Там же].
Избегая критики некоторых доказательств этой хорошей и очень актуальной работы, отметим следующее. Во-первых, эпоха неолита в Красноярской лесостепи, по мнению многих специалистов, завершается к средине III тыс. до н.э., а ранняя бронза относится ко второй половине III – концу II тыс. до н.э. Приблизительно в это же время в Западной Сибири, в частности в бассейне лесостепного Приобья, формируются культуры сей-минско-турбинской эпохи. Энеолит был пройден [Косарев, 1987]. С теоретической и практической точки зрения можно допустить, что в Красноярской лесостепи не было этой археологической стадии и переход к новой эпохе произошел на уровне ранней бронзы. Во-вторых, существующий в настоящее время арсенал источников не позволяет выяснить степень внедрения инокультурного компонента и его воздействия на местную среду. Не менее интересна проблема, связанная с окунев- ским воздействием на культурогенез рассматриваемой территории. В частности, на каком этапе ее развития происходил контакт с северными соседями. Достоверно известно, что памятники раннего этапа окуневской культуры приурочены к южным районам Минусинских котловин [Поляков, 2022, с. 95–99]. На черновском этапе развития население этой культуры о сваивает территории, лежащие в северных пределах Хакасско-Минусинской впадины. В связи с окуневской проблематикой, в частности появлением плоскодонной керамики с орнаментом на дне, нельзя не обратить внимания на культуры Приобья. Например, материалы Томского могильника на малом мысу (новокусковский этап – по М.Ф. Косареву) или игрековской культуры. Что же касается орнаментации плоского дна, то это традиция широко распространена в культурах развитой бронзы Западной Сибири. В связи с обозначенными двумя археологическими сюжетами целесообразно обратиться к хронологии погребений у дач Гороно, Переселенческого пункта, ул. Узенькой, Пещерного лога и др. Соотношение их с глазковской традицией пока выглядит недостаточно убедительным. К тому же в глазковском культурогенезе специалисты выделяют два этапа. В-третьих, требуется выяснить, насколько долго сохранялась неолитическая культурная среда в Красноярской лесостепи.
Исследованные красноярскими специалистами керамические комплексы поселений Дроки-но, Ладейки, Борово-2, Усть-Минжуль, Монастырское и др. содержат разнотипные материалы, что достаточно точно обозначено в многочисленных публикациях. Но чаще всего эта разнотипность содержит инокультурные компоненты из сопредельных территорий. Красноярская лесостепь расположена на стыке Западной и Восточной Сибири, а ее северозападная граница связана с таежной низменностью (Обь-Енисейское междуречье). Такая далеко неполная археологическая характеристика содержания эпохи бронзы Красноярской лесостепи правомерно выдвигает вопрос о стабильности и монолитности традиций ее обитателей, если они перманентно находились под влиянием (возможно, с присутствием) населения сопредельных территорий.
Можно полагать, что малочисленность и разнотипность источников этого времени не случайность. Это обстоятельство, а также сложно сть хронологической дифференциации материалов, разнонаправленность инокультурных компонентов вплоть до поздней бронзы позволяют высказать гипотезу о маргинальном характере культурно-исторического пространства Красноярской лесостепи в эпоху бронзы.
Статья подготовлена в рамках работ по Государственному заданию Министерства науки и высшего образования РФ № 0286-2021-0011 «Социокультурогенез и трансграничное взаимодействие древних и средневековых обществ в контактных зонах Западной и Средней Сибири».
Список литературы Красноярская лесостепь в аспекте культурно-исторических процессов Сибири в эпоху голоцена
- Бобров В.В. Ачинско-Мариинская лесостепь как своеобразный историко-культурный район // Научная конференция памяти Николая Михайловича Ядринцева (29–30 окт. 1992 г.), г. Омск: тезисы докладов. – Омск: Изд-во Омск. гос. пед. ин-та, 1992а. – С. 62–65.
- Бобров В.В. Кузнецко-Салаирская горная область в эпоху бронзы: автореф. дис. … докт. ист. наук. – Новосибирск, 1992б. – 45 с.
- Бобров В.В., Савельев Н.А., Тимощенко А.А. О культурной принадлежности неолитических комплексов Канско-Рыбинской котловины и Красноярской лесостепи // Esse quam videri: к 80-летию со дня рождения Германа Ивановича Медведева. – Иркутск: Изд-во Ирк. гос. ун-та, 2016. – С. 328–338.
- Генералов А.Г. Неолитическая керамика многослойного поселения Казачка // КСИА. – 1979. – Вып. 157. – С. 43–47.
- Генералов А.Г. Геоархеологический объект Стрижовая гора (стратиграфия, хронология, типология, технология). – Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2000. – 153 с.
- Генералов А.Г. Поздний палеолит – ранний мезолит Канско-Енисейского района: автореф. дис. … докт. ист. наук. – Иркутск, 2001. – 42 с.
- Косарев М.Ф. Западная Сибирь в переходное время от неолита к бронзовому веку // Бронзовый век лесной полосы СССР. Археология СССР. – М.: Наука, 1987. – С. 252–267.
- Макаров Н.П. Хронология и периодизация эпохи неолита и бронзы Красноярской лесостепи // Изв. лаборатории археологических технологий. – 2005. – Вып. 3. – С. 149–171.
- Максименков Г.А. Новые данные по археологии района Красноярска // Вопросы истории Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск: Изд-во СО АН СССР, 1961. – С. 305–315.
- Мандрыка П.В. Красноярская археологическая культура //Археологические памятники Южной Сибири и Центральной Азии: от появления первых скотоводов до эпохи сложения государственных образований. – СПб.: Изд-во ИИМК РАН, 2021. – С. 85–87.
- Поляков А.В. Хронология и культурогенез памятников эпохи палеометалла Минусинских котловин. – СПб.: ИИМК РАН, 2022. – 364 с.
- Савельев Н.А., Генералов А.Г., Абдулов Т.А. Многослойное археологическое местонахождение Казачка как основа для периодизации голоценовых культур Канско-Рыбинской котловины // Проблемы исследования каменного века Евразии. – Красноярск, 1984. – С. 136–142.
- Тимощенко А.А. Неолит и бронзовый век Канско-Рыбинской котловины: автореф. …канд. ист. наук. – Кемерово, 2013. – 22 с.
- Тишкин А.А. Создание периодизационных и культурно-исторических схем: исторический опыт и современная концепция изучения древних и средневековых народов Алтая. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2007. – 356 с.
- Merhart G. Bronzezeit am Jenissei. Ein Beitrag zur Urgeschichte Sibiriens. – Wien: A.Schroll & Company, 1926. – 189 s.