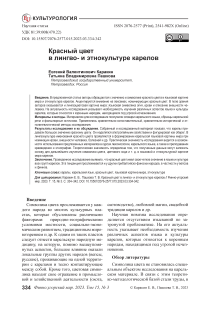Красный цвет в лингво- и этнокультуре карелов
Автор: Каракин Е.В., Пашкова Т.В.
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Культурология
Статья в выпуске: 3 т.15, 2023 года.
Бесплатный доступ
Введение. В предложенной статье авторы обращаются к значению и символике красного цвета в языковой картине мира и этнокультуре карелов. Акцентируется внимание на лексемах, номинирующих красный цвет. В поле зрения авторов оказывается и лингвоцветовая картина мира: языковая символика огня, крови и описание внешности человека. На актуальность исследования указывает необходимость изучения различных аспектов языка и культуры карелов, которые относятся к коренным народам, находящимся под угрозой исчезновения.
Карелы, карельский язык, красный цвет, языковая картина мира, этнокультура
Короткий адрес: https://sciup.org/147242396
IDR: 147242396 | УДК: 81:39:008(470.22) | DOI: 10.15507/2076-2577.015.2023.03.334-342
Текст научной статьи Красный цвет в лингво- и этнокультуре карелов
Символика цвета прослеживается у каждого народа во многих культурных пластах, которые обусловлены различными факторами: природно-географическими условиями местности, социально-экономическим развитием, традиционным мировоззрением и др. К одним из таких пластов следует отнести карельскую народную медицину, на которую, помимо вышеупомянутых аспектов, большое влияние оказали локальные группы других народов (вепсы, русские), проживающие на одной территории с карелами и тесно контактирующие между собой. Кроме того, цветовая символика находит свое отражение в промысловой и хозяйственной деятельности (охота, скотоводство), любовной магии, свадебной традиции карелов и др.
Научная новизна исследования определяется отсутствием изысканий по затронутой проблематике. На его актуальность указывает необходимость изучения различных аспектов языка и культуры карелов, которые относятся к коренным народам, находящимся под угрозой исчезновения.
Обзор литературы
Символика цвета не становилась специальным объектом исследования на карельском материале. В связи с этим теоретико-методологической базой стали труды, в которых анализируются цветовые коды и символы цвета в народной медицине удмуртов [17] и традиционной одежде обских угров [4], семантика цвета в истории и культуре тюрков [2], восприятие белого и черного цветов в славянской дохристианской культуре [11] и др. Упоминание цветовой символики в лингво- и этнокультуре карелов фрагментарно встречается в исследованиях Н. А. Лавонен [14], К. К. Логинова [16], Ю. Ю. Сурхаско [21], С. Пау-лахарью [25], Ю. Пентикяйнена [26] и др.
Материалы и методы
В качестве лингвистических источников использовались словари карельского языка и образцы карельской речи1, а также сборники фольклорных текстов2.
Представленное исследование базируется на этнолингвистическом, сравнительносопоставительном и сравнительно-историческом методах. Этнолингвистический метод позволил установить связь между анализируемыми именованиями и традиционной культурой карелов. Посредством сравнительно-сопоставительного метода к исследованию привлекался лексический материал. Применение сравнительно-исторического метода обусловлено использованием данных по различным аспектам рассматриваемой проблематики у близкородственных карелам народов и русских.
Результаты исследования и их обсуждение
В карельской лингво- и этнокультуре выбору цвета придается большое значение. Эта тенденция прослеживается в традициях, обрядах, верованиях и других народов (см., например: [2–4; 6; 23; 26]). Многие цвета имеют свое четкое значение. Обра- тимся к этим аспектам посредством языка и культуры карельского народа.
Красный цвет является основным в цветовой символике. Это цвет жизни, здоровья, солнца, а также он наделен апотро-пейными свойствами [3, 647 ; 6, 430, 434 ; 7, 386 ]. Для обозначения красного цвета в карельском языке служат лексемы ск. ruškie, ruskie, ливв. ruskei , люд. rusked 3. Наряду с именованиями ruškie/ruskie в собственно карельском наречии в фольклорных текстах для придания им большей музыкальности и выразительности в значении красного цвета используется лексема punani: Tuošša istuu poikia pu na partoja, pu no tah pu naista köyttä, raunikoijah rautaköyttä... «Тут сидят парни краснобородые, плетут красный канат, вяжут железный трос…»4. Именование punani спорадически фиксируется в карельском языке на соседствующих с Финляндией территориях, что указывает на его заимствование из финского языка [23, 69–70 ]. Примечательно, что основа puna- зафиксирована в карелоязычных эвфемизмах: puna hattu, puna lakki ‘дятел (букв.: красная шляпа (шапка))’, punalaita ‘червонец (букв.: красный край)’5.
Красный цвет ассоциируется с кровью. У многих прибалтийско-финских народов в среде охотников и скотоводов существовало табу на использование слова «кровь». Считалось, что при его упоминании она (кровь) будет загустевать и не сможет вытекать из забитого животного. Согласно другому поверью, это истинное название может спугнуть животное на охоте или при забое [24, 254–255 ]. В карельском языке в таких случаях применялись эвфемизмы:
– punani ‘кровь (букв.: красный)’: ei šitä lehmiem punaista otettu «в пищу кровь коровы не использовали»6;
– leppä ‘кровь животного, рыбы; менструация; молоко с кровью (букв.: ольха)’: (kalasta) leppyä valuu «из рыбы кровь течет»7;
– ruškie ‘кровь (букв.: красный)’: ruškie lašetah pois šiivatašta «кровь выпускают из скотины»8;
– ruskie maido ‘кровь (букв.: красное молоко)’: anoin ńokkah, ńiin anoin, ruskie maido läks «так в нос дал, что кровь пошла»9 .
О менструациях, как и о некоторых заболеваниях, принято было говорить иносказательно: punatauti ‘менструация (букв.: красная болезнь)’ [ПМА]; ruskiel hevol vierahat tuldih «месячные начались (букв.: на красной кобыле гости прибыли)»10. Возможно, это было связано с представлениями о том, что кровь, замеченная другим человеком, особенно подвержена сглазу или порче [24, 257 ].
Охра, являясь символом крови, в основании стен, у пространства входов и опорных столбов в древних жилищах Карелии служила своего рода строительной жертвой и оберегом [8, 96–97 ]. Охристые и красные оттенки связаны с воскресением и перерождением души [13, 204 ].
Неслучайно красный встречается в обряде поднятия лемпи (славутности). Будучи цветом крови и огня, он провоцирует взрыв эмоций и возбуждение любви (увеличение пульса, частоты дыхания) [20, 63, 182 ]. Красная нить, которой в этом обряде перевязывают любовный веник, символизирует жизненную силу и любовную страсть [10, 165 ]. При растопке бани для поднятия лемпи используются ольховые дрова, которые благодаря красному цвету ассоциируются с кровью и душой [12, 282 ].
Ольховые ветки карелы также применяли при приготовлении воды для первого омовения ребенка. Ветки парили в печи до тех пор, пока вода не становилась по цвету похожей на кровь [9, 67].
Красный цвет в карельском языке символизирует огонь: ruskie reboi katoksil juoksendeĺi leyhki «огонь на крышах полыхал (букв.: красная лиса по крышам бегала)»11; ruškie kukko katolla lenti «крыша загорелась (букв.: красный петух взлетел на крышу)» [ПМА]; punaista puurnu täys? (hiilet hiiloksessa) «красного полон ларь. Что это? (горящие угли в загнетке)»12.
При описании внешности человека лексема ruskie указывает на его здоровье и красоту: rožažet ku ruskiet juablokkažet «щечки, как красные яблочки»13; rožat on ruskiet ku buolažet «щеки красные, как бруснички»; rožat ollah ruskiet ku muarjažet «щеки красные, как ягодки»14; ruskei on vie nenä da očču ukolles «красные еще нос и лоб у мужика (мужа)»15. Последняя поговорка означает, что у человека еще достаточно здоровья, чтобы и семью прокормить, и детей завести. Согласно этнокультурным традициям молодых по возвращении с венчания сажали на печь и подавали им свежее молоко и ягодный сок для того, чтобы дети у них родились белолицые и румяные16: suagua lapsi meren vuahten valgevus, lohen kalan ruskevus «родите ребенка, чтобы он был белый, как пена, румяный (букв.: красный), как рыба-лосось»17.
Обратимся к символике красного цвета в карельской этнокультуре. В праздничной одежде карелы отдавали предпочтение рубахам красного цвета. Женщины носили сарафаны «матурники», крашенные подмаренником. Нити красного цвета применялись в традиционной вышивке [15, 127–128]. Здесь красный цвет одновременно являлся и украшением, и оберегом. О значимости красного цвета в образе человека можно судить по следующим карельским поговоркам: punasta pitää olla vaikka särinsilmän verran «красного должно быть хоть с плотвиный глаз»18; hoš tervaškanto šuorita ruškeih, – šeki rušottau! «хоть пень смоляной в красное одень, будет красив!» [22, 185–186].
В лечебной практике карелов красному цвету придавалось большое значение. Например, при избавлении от рожистого воспаления применялись предметы быта, элементы одежды или минеральные средства красного (как вариант – белого) цвета. Повсеместно практиковалось использование красной тряпки или красного шерстяного платка [1; 19; 25; 26]. Тихвинские карелы (д. Коргорка) мыли прямую кишку от забитой коровы и, высушив, хранили на печке. Для вытягивания жара из нарывов высушенный кусок кишки распаривали в кипятке и, прижав к больному месту (например, под мышкой или за ушами), накрывали заячьей шкурой и обвязывали красной фланелью [19, 146 ].
В карельской лечебной практике красный цвет использовался в обрядах в сочетании с другим цветом, чаще всего с белым. Для избавления от рожистого воспаления жители Олонецкого (ПМА) и Пряжинского (ПМА) районов смазывали больное место мелом (белый цвет), сверху обвязывали красной тряпкой, приговаривая: “Ruskevus, mene iäres! Valgevus, jäi nahkah!” («Краснота, уйди прочь! Белое, останься на коже!») [5, 194 ]. Подобный способ лечения был распространен и у вепсов19.
В некоторых лечебных ритуалах сочетались три цвета. Например, карелы, проживавшие в Архангельской губернии, сначала обильно посыпали рожистое воспаление мелом, затем накладывали сверху слой льняной кудели и синей бумаги, а в завершение перевязывали красным шнуром. Использование именно этих трех цветов (белого, синего и красного) объяснялось тем, что белый цвет уничтожает «красноту во время воспаления», а красного и синего «рожа боится» [1, 24]. Сочетания цветов при проведении магических ритуалов, включая лечебные, были характерны и для славян. Устойчивыми считались сочетания красный-черный, красный-белый, а также красный-бе-лый-синий [3, 650].
В карельской этномедицине цветовая символика отражена и в прогностике заболеваний. По мнению суоярвских карелов, человек, заболевший Божьей болезнью (подробнее об этом см.: [18]), узнавал об этом из сна, в котором видел красную (как вариант – черную) лошадь20.
В основе некоторых карелоязычных наименований болезней прослеживается лексема ruskei , обозначающая ‘красный цвет’. Деноминальное имя существительное ruškičča (диалектные варианты: ruskičču, ruškič, ruškičče 21) ‘краснуха, корь’ является самым распространенным наименованием в диалектах карельского языка (ср.: вепс. ruskič , rusttaińe , ruskii , ruskei 22). Лексемы образованы от словообразовательной основы имени прилагательного ruskei→ruskie- ‘красный’ путем присоединения суффиксов -čča , -čču , -čče , -č .
Обратимся к некоторым языковым примерам из диалектов карельского языка: lapših tulou ruškičča «к ребенку краснуха/ корь пристанет» (г. Тверь); ol’in i minä lap-sennu ruskičus «в детстве я болела красну-хой/корью» (п. Салми); ruskičaz on lapsi «у ребенка краснуха/корь» (д. Сямозеро). Стоит обратить внимание на то, что в карельском языке заболевания краснуха и корь могут обозначаться одной лексемой ruškičča (в диалектах – согласно фонетическим вариациям).
Тверские и сямозерские карелы применительно к краснухе и кори использо- вали лексему ruššičča/rubi, ruskiččurubi23 (букв.: ‘краснуха/оспа’). В данном наименовании прослеживается связь с симптомами недугов: в период заболевания на коже появляются красные мелкие прыщи и горло воспаляется/краснеет [23, 111]. Тихвинские карелы в качестве основного симптома отмечали сильный жар: ruškičašša palat iče što tulešša «во время краснухи весь горишь, как в огне»24.
В лечении упомянутых недугов акцент делался на использовании материи красного цвета. Данный способ основывался на принципе «подобное отталкивает подобное». Жители д. Семеновское (тверские карелы) и Коргорка (тихвинские карелы) избавлялись от кори с помощью красной тряпки: ею накрывали ребенка. Кроме того, все окна в комнатах занавешивали занавесками красного цвета25. Для сравнения отметим, что у вепсов, проживающих в д. Пяжозеро и Понда-ла, напротив, заболевший корью ребенок находился в темной избе. Возможно, это было связано с тем, что в мифологии темнота (мрак) соотносится с миром мертвых и смерти. Следовательно, поместив корь в условия темноты, люди пытались «изгнать болезнь красного цвета»26. У олонецких карелов (г. Олонец) способы лечения кори и краснухи были идентичными: заболевшего одним из этих недугов ребенка относили в жарко натопленную баню, раздевали, заворачивали в красную тряпку и парили сухим веником, подбрасывая на раскаленные камни жидкую закваску [5, 84]. Тверские карелы во время парения ребенка читали заговор, в котором акцентировали внимание на цвете болезни: “Ruškiene rubuozeni, armahane rubuozeni, ota omaš hyvyöt, anna omat tervehyšmiän raba boozella lapšella” «Красная оспа, любимая оспа, возьми (ты) свое добро, отдай нашему рабу Божьему, ребенку его здоровье». По возвращении из бани дитя усаживали на почетное место за столом и клали перед ним выкрашенное в красный цвет яйцо27, произнося: “Ka tässä siulaš gostinčat” «Вот тебе гостинцы» [14, 101].
Карелы, проживавшие в Беломорской, Олонецкой и Центральной Карелии (например, д. Вокнаволок, Суднозеро, Тол-лорека, Хиетаярви) для облегчения боли и лечения растяжения скручивали специальную нить – ск. venymärihma ‘нитка от растяжения (букв.: растяжение/нить)’. Для этого использовали нестираную шерсть трех разных цветов: красного, черного и белого. Больное место обвязывали три раза, делая каждый раз по девять узлов [27, 28 ]. Использование красной нити зафиксировано в сельскохозяйственной, а также в любовной магии.
Заключение
Таким образом, красный цвет является основным в цветовой символике карелов. Он наделяется апотропейными свойствами. Для обозначения красного цвета в карельском языке служат идентичные лексемы с учетом фонетических особенностей наречий: ск. ruškie, ruskie, ливв. ruskei, люд. rusked. В собственно карельском наречии отмечено бытование именования punani, заимствованного из финского языка. Как и у большинства народов, у карелов красный цвет ассоциируется с кровью, вместо названия которой карелы применяли эвфемизмы. Отмечаются символизирование красным цветом огня, употребление лексемы ruskie при описании внешности человека. Та же лексема лежит в основе некоторых карелоязычных наименований болезней. В лечебной практике карелов красному цвету придавалось большое значение. Примечательно, что красный цвет использовался в обрядах в сочетании с другим цветом, чаще всего с белым. Например, при избавлении от рожистого воспаления карелами применялись предметы быта, элементы одежды или минеральные средства красного (как вариант – белого) цвета. В карельской этномедицине цвето- вая символика отражена и в прогностике заболеваний. Использование красной нити зафиксировано в сельскохозяйственной, а также в любовной магии.
Практическая значимость исследования видится в возможности использования предложенных материалов в курсах лексикологии, карельского языка, в преподавании краеведения и этнографии. Теоретическая значимость определена тем, что полученные данные могут зало- жить основу для дальнейшего изучения символики цвета, цветового кода и т. д. в языковой и этнокультурной картине мира карелов.
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ вепс. – вепсский язык ливв. – ливвиковское наречие карельского языка люд. – людиковское наречие карельского языка
ПМА – полевой материал автора ск. – собственно карельское наречие карельского языка
Поступила 27.09.2022; одобрена 15.11.2022; принята 30.06.2023.
Список литературы Красный цвет в лингво- и этнокультуре карелов
- Алимов Т. М. Знахарство в Карелии // В помощь просвещенцу. 1929. № 1. С. 17-28.
- Бакиров М. Х. Семантика цвета в контексте истории, искусства и художественной словесности тюрков // Филология и культура. 2015. № 1. С. 114-119.
- Белова О. В. Красный цвет // Славянские древности. М., 1999. Т. 2. С. 647-651.
- Богордаева А. А. Цветовая символика в традиционной одежде обских угров // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 1999. № 2. С. 98-104.
- Верхний Олонец - поселок лесорубов: опыт этногр. описания. М.; Л.: Наука, 1964. 195 с.
- Винокурова И. Ю. Свадебная обрядность // Народы Карелии: историко-эт-нографические очерки. Вепсы. Петрозаводск, 2019. С. 420-438.
- Винокурова И. Ю. Традиционная одежда // Народы Карелии: историко-этнографические очерки. Вепсы. Петрозаводск, 2019. С. 376-389.
- Жульников А. М. Древние жилища Карелии. Петрозаводск: Скандинавия, 2003. 200 с.
- Иванова Л. И. Карельская баня: обряды, верования, народная медицина и духи-хозяева. М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2016. 408 с.
- Иванова Л. И., Миронова В. П. Досвадеб-ная обрядность и свадебный ритуал карелов (конец XIX - первая половина ХХ в.): исследования и материалы. Петрозаводск: Periodika, 2018. 365 с.
- Кондратенко А. А. Черный и белый цвета в славянских дохристианских верованиях о божестве смерти (к постановке вопроса) // Наука и образование сегодня. 2019. № 8. С. 97-99.
- Конкка А. П. На плечах Большой Медведицы: избр. ст. Петрозаводск: Карел. науч. центр РАН: Ин-т яз., лит. и истории КарНЦ РАН, 2015. 342 с.
- Конкка А. П. Похоронно-поминальная обрядность // Народы Карелии: историко-этнографические очерки. Карелы. Петрозаводск, 2019. С. 194-209.
- Лавонен Н. А. Карельская скатерть: ее функции в народном быту и традиционных обрядах // Обряды и верования народов Карелии. Петрозаводск, 1994. С. 82-102.
- Логвиненко Е. С. Традиционная одежда // Народы Карелии: историко-этнографические очерки. Карелы. Петрозаводск, 2019. С. 127-134.
- Логинов К. К. Похоронно-поминальная обрядность // История и культура Сямозе-рья. Петрозаводск, 2008. С. 291-300.
- Панина Т. И. Символика цвета в удмуртской народной медицине // Ежегодник финно-угорских исследований. 2013. № 3. С. 34-49.
- Пашкова Т. В. К вопросу о языческо-христианском синкретизме в карельской народной медицине (на примере болезни jumalanviga 'насланный Богом на человека недуг') // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Сер.: Общественные и гуманитарные науки. 2015. № 1. С. 75-77.
- Рягоев В. Д. Тихвинский говор карельского языка. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1977. 287 с.
- Серов Н. В. Семантика цвета в традиционных культурах. Санкт-Петербург: [Б. и.], 1998. 282 с.
- Сурхаско Ю. Ю. Семейные обряды и верования карел, конец XIX - начало ХХ в. / отв. ред. Е. И. Клементьев. Л.: Наука. Ле-нингр. отд-ние, 1985. 172 с.
- Jyrinoja V. Akonlahden arkea ja juhlaa. Turku: SKS, 1965. 279 s.
- Koski M. Varien nimitykset suomessa ja lahisu-kukielissa. Savonlinna: WSOY, 1983. 366 s.
- Nirvi R. E. Sanankieltoja ja niihin liittyvia kielenilmioita itamerensuomalaisissa kielissa: riista ja kotielaintalous. Helsinki: SKS, 1944. 343 s.
- Paulaharju S. Syntyma, lapsuus ja kuolema: Vienan Karjalan tapoja ja uskomuksia / toim. P. Laaksonen. Porvoo: WSO, 1995. 248 s.
- Pentikainen J. Marina Takalon uskonto (uskontoantropologinen tutkimus). Helsinki: SKS, 1971. 388 s.
- Virtaranta P. Kynalla kylmalla - kadella lampimalla: muistiinpanoja tapauksista ja tapaamisista. Helsinki: SKS, 1993. 356 s.