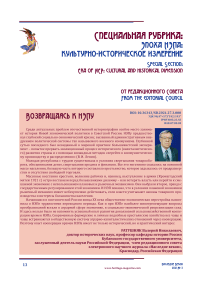Красный санпросвет: медицина, культура, общество в 1920-е годы
Автор: Дмитриев Александр Николаевич, Пашков Константин Анатольевич, Паренькова Ольга Рудольфовна
Журнал: Наследие веков @heritage-magazine
Рубрика: Эпоха НЭПа: культурно-историческое измерение
Статья в выпуске: 3 (27), 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена специфике санитарного просвещения в 1920 е гг. как гибридного феномена на стыке истории медицины и истории общества. Вслед за Д. Биром и Л. Энгельштайн рассматривается соединение «социально-инженерных» подходов части медицинской интеллигенции с радикальными преобразовательными планами большевиков под знаком науки о человеке и его здоровье. Особенностями нэповского общественно-медицинского дискурса были прогрессизм, борьба с религиозными суевериями, атака на социальные болезни (туберкулез, алкоголизм, венерические заболевания) и их причины. В статье рассматриваются стилистические особенности и жанровое многообразие этой пропагандистской продукции: пьесы, агитационные материалы, псевдо-фольклорные тексты (М. Утенков, С. Заяицкий и др.), а также деятельность институтов: музеев медицины и гигиены, Домов санитарного просвещения. Особенное внимание уделяется «национальным» и региональным версиям этого дискурса, его трансформации и формализации уже в 1930-е гг.
Санитарное просвещение, социальная гигиена, пропаганда, традиционная культура, социальные девиации, история медицинских музеев
Короткий адрес: https://sciup.org/170191468
IDR: 170191468 | УДК: [374.7:614]:791.16(470+571)”192” | DOI: 10.36343/SB.2021.27.3.001
Текст научной статьи Красный санпросвет: медицина, культура, общество в 1920-е годы



ГРНТИ 13.09.00
ВАК 24.00.01
Красный санпросвет: медицина, культура, общество в 1920-е годы1
Red Sanitary Enlightenment: Medicine, Culture and Society during the 1920s2
События последних двух лет, ситуация глобальной пандемии сделали проблематику истории медицины, болезней, эпидемий как никогда общественно актуальной. Это сказалось и на определенной переориентации интересов сообщества отечественных историков ХХ столетия, для которых раньше история врачебного дела (в широком смысле) все-таки не была в фокусе первостепенного внимания. Это относится и к историографии советского общества, включая межвоенный период, где проблемы социально-политического развития продолжают быть приоритетными. В то же время в последние десятилетия сдвиг в сторону «истории снизу» тоже стал очевиден. Одной из таких важных областей для всестороннего осмысления перемен первой половины ХХ в. стала область социальной гигиены и публичной медицины. Она располагается на стыке истории медицины, культурных представлений, изучения революционных преобразований и массовых настроений, истории общества и профессиональных экспертиз, конвенций и кружков. Здесь врачебные установки и образы должного обустройства и поведения близко соприкасаются с разными общественными проектами и социально-политическими программами, а также усвоенными традициями и представлениями медицинского или идеологического плана. В полной мере проявлением и зеркалом таких сдвигов, новаций и преемственности одновременно стала история советской медицинской пропаганды времен новой экономической политики (где прежние дореволюционные темы социальной гигиены и санитарного обустройства переосмыслялись уже под знаком борьбы старого и нового быта).
Главные источники, на которые мы опираемся, – это публикации и сводные работы активистов санпросвета 1920-х гг. Методологически в освещении концептуальных сюжетов экспериментальной медицины и биологии ориентиром выступают новаторские разработки Н. Л. Кременцова и его коллег [74] [86], сосредоточенные на связях науки, политики и культурных экспериментов межвоенной эпохи.
В плане историографического введения в проблему нужно обратить внимание на итоговые работы конца 1920-х гг., а также юбилейные издания (к годовщинам революции, например) [1] [17]. Но все же подлинно научное изучение этих пропагандистских материалов восходит к послевоенному периоду, когда еще активны и деятельны были и ключевые свидетели, и действующие герои процессов 1920-х гг. [34] [37] [62]. В целом историко-медицинские санпросветительские концепции должны были встраиваться в хронологическую канву «этапов строительства социализма», при этом постепенно все больше внимания уделялось их связи с дореволюционными достижениями, а не только новым советским условиям работы санитарно-просветительских учреждений. В зарубежной историографии этот дореволюционный базис изучен в исследованиях Лоры Энгельштайн [70], а для собственно нэповского периода важно отметить многолетнюю работу Сьюзан Гросс-Саломон, которая детально исследовала особенности советской медицины, делая упор на специфические транснациональные связи и траектории видных советских врачей, исследователей и организаторов в области лечебного дела и профилактики болезней [80] [81] [82]. С 1990-х гг. в новых идеологических условиях трудности и проблемы медицины и санпросвета 1920-х гг. смогли наконец более полно и разносторонне освещаться и в работах российских историков (особенно в связи с «социальной изнанкой» нэпа), обычно на региональном уровне [30] [32] [58] [65]. Кроме того, коллективные работы и монографии 2010-х гг., особенно книга Т. Штаркс, задают современный уровень рассмотрения этих агитматериалов [11] [83] [84]. В настоящее время статьи, выполненные уже во время пандемии в рамках исследовательского проекта Йенского университета (Германия) под руководством профессора И. Я. Полянского, показывают широкий спектр публичной «инсценировки» социально-медицинских проблем 1920-х гг. [73] [77] [78] [79].
Наша задача – показать комплексный характер нэповских вариантов «красного санпросвета», рассмотрев его в контексте существенных для понимания общественно-медицинских представлений того периода наци-онал-федеративных [75] и историко-музейных реалий, что позволит дополнить проведенные ранее исследования этой темы с точки зрения истории культуры и науки, а также социальной истории.
Бедствия времен Первой мировой войны и эвакуации, приумноженные хозяйственной разрухой и массовыми болезнями (испанка, сыпной тиф и др.) периода гражданской войны, обусловили совсем иное понимание врачебной работы, отличное от характерного для «спокойного» развития времен Пироговских съездов и борьбы за права земской медицины в межреволюционный период [66]. На смену надеждам на «самоорганизацию общественности» приходит государственная мобилизация (не всегда только большевистская) и реалии разноплановых военно-медицинских задач [18] [43]. Д. Бир и Л. Энгельштайн уже обращали внимание на специфический научно-медицинский, порой и «хирургический» язык социальных метафор, которыми пользовались врачи-«общественники» еще до 1914 г. [72] [70]. Именно такой подход к решению проблемы «социальных болезней» и обусловил сближение целого ряда докторов старой формации с новой властью, на лозунгах которой были написаны вполне просветительские принципы [4] [13]. Можно вспомнить и коллективную биографию сотен и даже тысяч мобилизованных студентов ускоренных университетских выпусков времен мировой войны и молодых врачей (вроде Михаила Булгакова), реализующих себя в резко переменившихся социальных условиях.
Схожим образом переменились и темы социальной гигиены и санитарного просвещения. Еще в 1913 г. прошедшая в Петербурге с большим резонансом гигиеническая выставка касалась также и принципов организации школьного дела и здоровья детей и подростков, особенно «на местах» [40, c. 556]. Теперь к прежней состязательности и муниципальной активности подключается мотив государственного и общественного принуждения, регулирования под знаком общедоступности, массовизации и эффективности. Область охраны труда, профессиональных заболева- ний – прежде достаточно узкая – стала (пусть с элементами декларативности) приоритетной для государства [68], а особо акцентированной оказалась субъективная, сознательная сторона жизни прежних социальных низов [3] [71]. Именно в эту зону, на пробуждение «отсталых» или «темных» масс была направлена активность органов санитарного просвещения. Условия не могли измениться вмиг – тем важнее была ставка на перевоспитание «несознательных», профилактику свирепствовавших тогда болезней, включая туберкулез и венерические заболевания. Обращаясь назад, к периоду Гражданской войны популярный драматург уже нэповской поры, пролеткультовец В. Биль-Белоцерковский в популярной пьесе «Шторм» вложил в уста одного из протагонистов-красноармейцев характерную ремарку:
«Вместо того чтобы своих бить, вы лучше вошь бейте. И помирать перестанете. Вошь Деникину и помещикам союзник, от нее зараза идет. Кто этого не понимает, тот балда, сам себе враг!»
Схожими были и мотивы санитарно-пропагандистской составляющей ряда «Окон РОСТА» В. Маяковского. Революционное сближение болезни, классового врага и «старого быта» стало характерной манерой и для новых времен, уже после окончания Гражданской войны.
15–20 марта 1921 г. в Москве состоялось I Всероссийское совещание по санитарному просвещению. Особую тревогу руководителей вызывало отсутствие у населения должного понимания медицинских и одновременно общественных задач, «несознательное отношение к требованиям личной гигиены, результатом чего являются эпидемическое распространение разных инфекций, вшивость как бытовое явление, с сыпняком и возвратным тифом, бытовой сифилис, массовое заболевание трахомой и чесоткой, детская смертность, занимающая первое место в Европе, несознательное отношение к мероприятиям, направленным на оздоровление страны» [41, c. 12] [67]. Неслучайно девизом должна была стать установка «Народное здравоохранение – дело рук самих трудящихся». Акцент делался на повышение активности снизу и не только в режиме пассивного усвоения верных и научно подкрепленных знаний. Это отвечало и уста- новкам декрета РСФСР «О санитарных органах республики» (от 15 сентября 1922 г.), и документам ежегодных общесоюзных съездов бактериологов, эпидемиологов и санитарных врачей. С красноармейского военно-наступательного модуса санпросвещение должно было переключиться на культурнический, переходя от борьбы с острыми и явно-грозными эпидемиями в затяжное противодействие давним социальным заболеваниями и привычками.
Ключевыми фигурами для санпросвета на официальном уровне были заместитель наркома здравоохранения Николай Александрович Семашко (1874–1949) и руководитель Российского общества Красного Креста Зиновий Петрович Соловьев (1876–1928). Выпускница Бестужевских курсов Софья Николаевна Волконская (1889–1942), работавшая на высоком посту в Мосздравотделе, была редактором многих изданий медицинского профиля, часто совместно с врачом Фроимом Юдовичем Берманом, который, в свою очередь, являлся автором «досанпросветовских» брошюр [8]. В 1928 г. С. Н. Волконская стала инициатором создания Московского областного института санитарной культуры и возглавляла его до 1939 г. [22].
Исследователи уже обращали внимание на такой яркий элемент нового типа профилактической и «гигиенической» пропаганды нэповской эпохи, как театры санпросвета. Недавно были опубликованы документы Российского государственного архива научно-технической документации, касающиеся развития этих учреждений [35] с середины 1920-х гг. в рамках не только Московского санпросвета, но уже и всей страны, включая Украину и национальные республики (в материале отмечена в том числе роль первого директора театра А. З. Народецкого). Еще до московского театра соответствующие пьесы и сцены ставили в «художественно-сан-просветительной студии» актрисы и театрального педагога Ольги Владимировны Рахмановой (1871–1943).
Как правило, сочинения для таких театральных коллективов писали люди, профессионально связанные с медициной. Характерными были сочинения профессора-медика Михаила Дмитриевича Утенкова (1893– 1953), тогдашнего начальника ленинградского Санпросветотдела Главного санитарного управления РККА – «В тумане», «Погибшие создания», «Порт» (1923–1924 гг.) [6]. Большинство санпросветовских пьес посвящались бытовым, «обывательским» сюжетам и описывали поучительный путь слишком позднего прозрения «типичных» и довольно узнаваемых главных героев. Они вовремя не обращались к современным правилам лечения или не консультировались с врачом, «запуская» свои болезни, порой безнадежно (как, например, в изданной в Нижнем Новгороде пьесе А. Шапиро и О. Кудро «Четыре креста», название которой отсылает к резко положительной реакции Вассермана). В этих пьесах попытки скрыть симптомы «нехорошего заболевания» или лечиться «дедовскими методами» только запутывают и усугубляют ситуацию, за что героев неизбежно ждет расплата – нездоровый ребенок, заразившиеся ни в чем не повинные домашние, «поломанная» жизнь.
«Гримасы нэпа», теневые стороны городской или деревенской жизни (беды проституток, сифилисный или туберкулезный быт, пьянство – в целом «нездоровая среда») в этой новой нравоучительной литературе показаны довольно ярко и детально, еще без со-цреалистического глянца [29]. Нередко пьеса становилась частью лекционного мероприятия с более привычным нам научным содержанием, а докладчиком мог быть доктор из просмотренного представления.
Помимо выпусков популярных брошюр, тематической художественной литературы, пьес и книжечек малого формата, более специализированными и рассчитанными на вполне профессиональную аудиторию были публикации в профильных журналах, особенно методические материалы шести выпусков «Теории и практики санитарного просвещения» (1925– 1928 гг.). Они выходили под общей редакцией С. Н. Волконской в 1924–1928 гг. с приложением обширной библиографии и отличались разносторонним обсуждением возникавших проблем – от выставочной техники до поисков «обратной связи» с публикой. На исходе 1920х гг. в специализированных журналах также обсуждались вопросы эффективности этой санитарной пропаганды, способы ее «замера» и оптимизации порой теми же профессиональными сочинителями историй для массового распространения [12] [60] [61].
Особенно стоит отметить широкий географический охват нового санпросвета. В середине 1920-х гг. издаются работы кавказских популяризаторов (где антураж и тематика в целом очень схожа с российскими, но добавляется местный колорит) [49]. Важна и интересна работа И. К. Сейфульмулюкова по опыту санпросвещения среди коренного населения Средней Азии, содержащая ряд ценных наблюдений о специфике усвоения новых типов знания в обществе вполне традиционного склада [50]. В журнале «Медицинская мысль Узбекистана» он также пытался противопоставлять народных медиков-костоправов (та-бибов) современной медицине. Но в целом главной тактикой было избрано не столько безоговорочное опровержение «старого» знания как отсталого, сколько внимание к тому, как научные сведения об устройстве человеческого организма, анатомии и физиологии сосуществуют в жизни современного декханина с прежними взглядами и представлениями [51] [36]. Столкновение двух миров, с упоминанием местного Дома санпросвета с его стандартно-скудной коллекцией [23] иронически отразилось и в среднеазиатском эпизоде «Золотого теленка» И. Ильфа и Е. Петрова. Отчасти схожими были описания быта бурят в рамках изучения сифилиса в экспедициях конца 1920-х гг. [5]. Стоит обратить внимание, что, несмотря на политику корениза-ции и продвижения местных языков, русский язык оставался универсальным средством научной коммуникации, а также профилактики и пропаганды нового здорового образа жизни в республиках СССР.
Широкая востребованность врачей в новосозданном СССР, открытие высших и средних медицинских школ в регионах еще во время Гражданской войны сопутствовали росту мобильности высококлассных специалистов-медиков, среди которых были и энтузиасты санпросветительской работы. Показательна активность в деле организации и развития местных санпросветтеатров врача Александра Ранова на Урале и Украине на протяжении 1920-х гг. [45] [42].
Как эта культурная сфера была обустроена в жанровом плане? Мы вслед за рядом исследователей уже отметили черты триви-ализации санпросветительного репертуара, его шаблонности (как своего рода развлекательной иллюстрации к базовой лекционной работе). Безусловно, мы имеем дело с явлениями не столько массовой, сколько низовой культуры; авторы ее сознательно и целенаправленно использовали фольклорные элементы: раешный стих, частушки (особенно в антиалкогольной пропаганде), народных персонажей вроде Петрушки-«ведущего». Вообще санитарное дело в 1920-е гг. было сферой, где активно использовались инструменты не просто прямой дидактики, но «завлечения», рекламы, отвоевания массового зрителя или читателя у вредных, «антиобщественных» форм проведения досуга (у того же алкоголя) – отсюда обилие в выставочных и типографских санпросветительных материалах тех лет игр, шарад, ребусов, помимо чаще рассматриваемых пьес или представлений [38] [39]. Активность реципиента всячески стимулировалась и не сводилась к простому усвоению готового образа – в союзники привлекалась и литературная традиция, и сценические приемы, и изобразительная инновативность [59]. Так, в массовых изданиях санпросветитель-ных пьес нередки указания на желательный характер постановки, наличие режиссерских «подсказок», советы избегать утрировки и ходульности [12]. Даже материалы инсценированных судов (над нерадивыми матерями, проститутками, заражающими клиентов) несколько усложняются по сравнению со схожими публикациями времен Гражданской войны.
Наличие и утверждение новых форм и методов санпросвещения не перечеркнуло старых традиционных: в 1919 г. в Петрограде на основе материалов упомянутой нами предвоенной санитарно-гигиенической выставки смог открыться и затем успешно работать Музей гигиены (в бывшем особняке Шувалова, потом – здании Министерства юстиции), также пополнялись в годы нэпа фонды медицинских музеев вузов и профильных учреждений. Как показывают, в частности, работы Е. Шерстневой и других исследователей [66] [67], музеи тогда обладали более сложными и исторически богатыми коллекциями, нежели передвижные и нередко стандартные экспозиции региональных Домов санпросвета (там первенство открытия и размещения выставок принадлежало скорее регионам – Ярославлю, Смоленску, Харькову, а не «избалованным» столицам). Дома санпросвета были ближе к клубам и за счет своей библиотеки и серий лекций похожи на избы-читальни в сельской местности с их политическим назначением, помимо образовательного (к 1928 г. таких Домов было более семидесяти) [19]. В 1919 г. в Москве на базе Социального музея имени А. В. Погожева – санитарного врача и статистика – и Музея Общегородской больничной кассы был сформирован Музей социального обеспечения и охраны труда. В том же году открыт Государственный Музей социальной гигиены Наркомздрава РСФСР, руководителем его стал Альфред Владиславович Мольков (1870–1948), прежний глава Пироговской Комиссии по распространению гигиенических знаний среди населения. А. В. Мольков в годы нэпа написал две книжки о медико-этнографическом исследовании двух кавказских народов [16] [24].
К делу санпросвета подключались и общественные организации (комсомол, пионерия); неслучайно использование свойственных им образов агитации (так называемая «живая газета» [53], представления синеблу-зников) и близость к стилю политагитации «за новый быт», особенно в деревне [85]. Привлечение ресурсов детской литературы сказалось на мобилизации младшего поколения против вредных привычек взрослых, особенно курения и пьянства (характерна для нэповской эпохи брошюра «Поход на взрослых» [69]).
Одним из способов бороться за права и здоровье детей и взрослых стала активизировавшаяся в конце 1920-х гг. психогигиеническая работа по линии санпросвета [15] (пропаганда «здоровья нервов» [7], где уже тогда активно работал психиатр Израиль Бергер (1895–1962)), об этой сфере в последние годы написано немало интересного [52] [76]. Для того времени важна близкая уже к реалиям наших дней попытка отказаться от привычных практик приветствия вроде рукопожатия по санитарно-гигиеническим причинам (она отразилась и в пьесе «Клоп» В. Маяковского). С точки зрения гиперрациональных установок «нового быта» конца 1920-х гг. российский или московский обыватель со своей тягой к привычному оказывался по своей «косности» или высмеиваемой в газетах и брошюрах нелепости не слишком отличен от узбекского декханина. Еще одна важная «красная» нота, мировоззренческий лейтмотив этого санпросвета, отличный от более ограниченных установок только на профилактику болезней как в дореволюционный период, так во многом и в 1930-е гг., – борьба со знахарством и суевериями, акцентирование реальных объективных причин любых недомоганий (вместо «божьей кары»), ориентир на моральные поиски «нового человека», в конечном счете – утверждение атеизма [42] [86].
Подводя итог анализу культурной составляющей нэповского санпросвета, стоит еще раз отметить его «полистилистику», не-сводимость только к дурновкусию или заказной «халтуре». Геофизик, разделяющий многие увлечения Серебряного века, Давид Арманд (1905–1976) в конце жизни колоритно иронически описывал свои юношеские годы, проведенные в педагогической колонии первой половины 1920-х гг. Там тоже ставили самодеятельные санпросветительные спектакли в духе символистского театра – например «Хламида-Монаду». Позволим привести обширную, но показательную цитату:
«В связи с необычайными успехами медицины в царстве “нимфозорий” наступила паника. Собравшись в кружок, гонимые и преследуемые нимфозории горестно поют:
О гонококк мой, гонококк, Тебя сгубил жестокий рок! О спирохета, спирохета, Ты пала жертвой санпросвета!
Среди нимфозорий находится герой, Хламида-Монада (был представлен в виде красивого юноши, жениха другой нимфозо-рии – в виде девушки), который берется победить и разгромить человечество. Но как это сделать такому ничтожному микроскопическому существу? Хламида-Монада отправляется в лабораторию профессора Резерфорда, пролезает в тубус микроскопа снизу вверх и увеличивается в тысячи раз. Он является перед ученым в виде огромного чудовища и, приставив ему нож к горлу, требует, чтобы он освободил атомную энергию, которая находится у него в заточении. Напуганный Резерфорд отпирает темницу (шкаф со столярными инструментами), выводит атомную энергию и отпирает наручники с ее рук. Раздается страшный взрыв (4 человека били в кастрюли), в зале гаснут коптилки, и человечество (зрители) погибает под грудой обломков Вселенной (с хор и из терема зрительный зал бомбили дождем подушек). Режиссер… сказал короткую речь, что кто не понял вещего смысла представленной драмы, может отнести это на счет своего несовершенного понимания» [2, c. 205]. Внимание к вопросам пола, их рационализация и медикализа-ция – еще одна из примет времени и момент преемственности со спорами и настроениями предреволюционного десятилетия.
Мелодраматика и обработка традиционного репертуара отсылали к схемам назидательных постановок «классического века» и школьных театров, а не только представлений для широкой полуграмотной публики с антиалкогольными частушками. Такая продуманная работа с заказной темой характерна для «пролетарских» или санпросветных пьес Сергея Заяицкого (1893–1930), талантливого драматурга и переводчика из круга Михаила Булгакова. В духе разоблачения «старого быта» и утверждения здоровья, душевного и телесного, написаны его драмы «Жизнь приказывает» (1928 г., в числе редакторов значились Ф. Ю. Берман и С. Н. Волконская), «Простая мудрость», «Таинственные письма» (обе 1930 г.). Сын университетского приват-доцента, известного специалиста по онкогинекологии и одновременно увлеченного музыканта-гитариста С. С. Заяицкого (1850–1910), он был автором многих детских произведений, псевдопереводной прозы и ценимой, в частности М. Горьким, трагикомической повести «Жизнеописание Степана Александровича Ло-сосинова» (1928). С детства страдавший костным туберкулезом С. Заяицкий был горбат и при том, по мемуарным свидетельствам, сохранял добродушие и насмешливость, характерные и для его сочинений [27].
Важной особенностью выразительности «красного санпросвета» стало использование, помимо театра и представлений, визуальных методов: плаката [9], лубка [20], выставки, но не иллюстрированного журнала, например.
Также довольно быстро стали применять в медицинско-просветительных целях возможности нового медиа (кино) с его специфической аудиторией. Напечатанный в 1923 г. вполне сангигиенический «Мойдодыр» Корнея Чуковского носил характерный подзаголовок «кинематограф для детей». Показателен выполненный в 1927 г. аннотированный каталог соответствующих образовательно-научных фильмов [57]. Далеко не случайной была фигура его составителя – психиатра Лазаря Суха-ребского (1899–1986). Тесно связанный с аналитическим изучением кино как особого рода искусства и вида знания Л. Сухаребский интересен и своим литературным дебютом. В начале 1920-х гг., на заре нэпа, он принадлежал к недолго существующей, но громко заявившей о сeбе группе «ничевоков», близких к опыту европейского дадаизма [26]. Что очень любопытно – в эту же группу входил и Александр (Аэций) Ранов (1899–1979), энтузиаст уральского и украинского санпросвета, уже упомянутый ранее в нашей статье [44]. Было ли это общее «нигилистическое» прошлое случайным для биографии этих деятелей? Опубликованные Ильей Кукуем поздние воспоминания А. Ранова, работавшего в санпросвете Кургана и в 1970-е гг. [46], показывают вполне от-рефлексированную позицию молодых русских адептов тогдашних европейских умонастроений [26] [47]. Переход от всеотрицания к будничной оргработе с болезнями, микробами и их культурными репрезентациями оказался в чем-то сродни нэповскому трезвому и напористому духу «новой деловитости» (по имени влиятельного европейского художественного течения, пришедшего на смену дадаизму к середине 1920-х гг.).
Интересно, что в плане идейных комбинаций эти прагматические устремления оказались долговечней литературных проб «старших», вроде Михаила Утенкова – руководителя региональной санитарной службы Красной армии [63]. Но важно отметить, что его раешные монологи даже вошли в антологию «петрушечного» нового фольклора, который подготовили на исходе нэпа совместно двое молодых ученых: историк древнерусской литературы И. П. Еремин и будущий специалист по культуре времен недавней «Великой войны» О. В. Цехновицер [33]. Сознательность тогда виделась главным ручательством «нового быта», о котором с энтузиазмом писали в то время левый сменовеховец и старый народник В. Г. Тан-Богораз и его ученики [54]. Но прежняя советская сознательность, понимаемая как лояльность и профессионализм, оказалась недостаточной при новом повороте политического курса на переломе 1920-х и 1930-х гг.
Для этого поворота в описываемой области характерны мобилизационные установки реконструктивного периода (применительно к медицине), отказ от прежних свободных театральных средств пропаганды, ставка на специализацию и отказ от «излишеств». Неслучайными были и кадровые перемены, в частности уход Л. Боголеповой с поста руководителя Института профзаболеваний имени В. А. Обуха в 1931 г., свертывание прежних интернациональных связей, особенно с Германией [25]. Наряду с «узко понятым» санпро-свещением главным становится диспансеризация работающего населения (с выявлением рисков и акцентом на обязательную профилактику, а не на желательную «самопереков-ку») [31] [48]. Время экспериментов в культуре, стилях жизни и коммуникативных формах (как и с эсперанто, толстовским учением, вегетарианством и т.д.) приходит к концу. Под редакцией прежних авторитетов, Ф. Ю. Бермана и С. Н. Волконской, выходит уже не свод разноплановых материалов (как раньше) с обобщением местного опыта, но инструктивное пособие – объемистый учебник авторства К. В. Лапина по санитарно-просветительскому делу для среднего медперсонала [28]. Даже деятельность Обществ Красного Креста огосударствляется максимально – вместо страха личной болезни или семейных бед двигателем санитарной пропаганды становится теперь участие в коллективном производстве и особенно обороне (в 1930-е гг. в СССР развивалась система БГСО – «Будь готов к санитарной обороне») [14].
Отражением новой литературной проекции медицины стал роман-трилогия «Открытая книга» – масштабное сочинение послевоенных лет Вениамина Каверина, однокашника О. Цехновицера по псковской гимназии. Одним из прототипов героев был, как известно, брат писателя – микробиолог Лев Зильбер. Он в середине 1960-х гг., незадолго до смерти, напечатал в журнале «Наука и жизнь» воспоминания о подавлении вспышки чумы в Закавказье в начале 1930-х гг., напомнив о важности учета специалистами «вредных суеверий» и «пережитков» [21]. Производственный крен и сворачивание популярных ранее низовых инициатив очевидны по публикациям активистов прежнего санпросвета 1931–1933 гг.: М. Д. Утенков развивает методики непрерывного культивирования микроорганизмов, Ф. Ю. Берман и Я. Н. Трахтман переключаются на стандартизованные руководства и санитарные инструкции для рабочих коллективов. В 1937 г. С. Н. Волконская была назначена заведующей сектором санитарной культуры и пропаганды Народного комиссариата здравоохранения СССР, но время расцвета новых культурных форм осталось позади [64].
В годы Великой Отечественной войны внимание закономерно вернулось к начинаниям Московского театра санпросвета. Тут важным был вклад ранее репрессированной Екатерины Гордеевны Кармановой (1897–1971), директора Института санитарного просвещения, которая добивалась включения в репертуар театра, в частности, переработок В. Маяковского и «Мнимого больного» Ж.-Б. Мольера. В связи с созданием в 1944 г. Академии медицинских наук, ее деятельностью и с последовавшей критикой «культа личности» Сталина ситуация стала меняться. Отказ от былых экспериментов перестает быть главной формой обращения со своим прошлым. Люди с санпро-световским опытом 1920-х гг. – академик АМН Илья Давыдович Страшун (1892–1967) [55] [56], биограф и соратница С. Н. Волконской Людмила Сергеевна Боголепова (1899–1979) [10] – теперь могут внести решающий вклад в формирование советского историко-медицинского канона. Для восстановления преемственности с дореволюционной прогрессивной традицией и сохранения памяти о 1920х гг. важным стало воссоздание в 1978 г. давно «свернутого» московского Музея гигиены труда и профпатологии. Интерес к периоду нэпа, возросший во времена перестройки, и последующая либерализация позволили объективно, без идеологических установок советского строя, изучать богатую неожиданными идеями историю санпросвета и публичной медицины в СССР. «Красный санпросвет» и сейчас представляется характерным «гибридным» проявлением сложного, многомерного и поучительного, несмотря на относительную краткость, нэповского периода.
Konstantin A. PASHKOV
Список литературы Красный санпросвет: медицина, культура, общество в 1920-е годы
- 50 лет советского здравоохранения (1917–1967 гг.). М.: Медицина, 1967.
- Арманд Д. Путь теософа в стране Советов. М.: Аграф, 2009.
- Арсентьев Е. В., Решетников В. А. К биографии Н. А. Семашко // История медицины. 2018. № 3. С. 447–460.
- Байрау Д., Левинсон К. Большевистский проект как план и как социальная практика // Ab Imperio. 2002. № 3. С. 353–384.
- Башкуев В. Ю. Советские врачебные репрезентации традиционного быта бурят в контексте кампании против социальных болезней (1920-е – начало 1930-х гг.) // Oriental Studies. 2018. Т. 11. № 2. С. 47–58.
- Белокрысенко С. Жизнь и смерть ученого в СССР. Профессор Михаил Дмитриевич Утенков (1893–1953). Попытка расследования // Наука и жизнь. 2014. № 10. С. 56–61.
- Бергер И. А. К методике психосанитарного просвещения // Психогигиенические и неврологические исследования. Том II. Вып. I. Психогигиена / под ред. Л. М. Розенштейн. М.: Изд-во ГНИНПП, 1930. С. 139–156.
- Берман Ф. Суд над нерадивым и неряшливым красноармейцем. Ростов н/Д: Политуправление СКВО, 1921.
- Бернстийн Ф. Представления о здоровье в революционной России: тендерная политика в плакатах по половому просвещению в 1920-е годы // Визуальная антропология: режимы видимости при социализме. М.: Вариант, 2009. С. 215–244.
- Боголепова Л. С. С. Н. Волконская: Научная и методическая деятельность по санитарному просвещению. М.: Институт санитарного просвещения, 1966.
- Большакова О. В. Формирование нового человека: биомедицинские науки в России ХХ века (современная англоязычная историография) // Наука в СССР: современная зарубежная историография: сб. обзоров и рефератов. М.: Ин-т науч. инф. по обществ. наукам, 2014. С. 47–80.
- Броун М. В. Десять лет санитарного просвещения в Ленинграде // Ленинградский медицинский журнал. 1927. № 8–9. С. 88–103.
- Бугров К. Д. Социальная инженерия советской власти // Границы и маркеры социальной стратификации России ХVII–ХХ вв.: векторы исследования. СПб.: Алетейя, 2018. С. 265–314.
- Воронина Т. Советский Красный Крест и борьба за «новый советский быт» в 1930-е гг. [Электронный ресурс] // История повседневности. URL: http://www.el-history.ru/node/328 (дата обращения: 22.05.2021).
- Громбах В. А. Как трудящимся бороться за здоровые нервы: (Психогигиена и психопрофилактика труда и быта) / под ред. Ф. Ю. Бермана. М.: Изд-во Мосздравотдела, 1929.
- Даргинцы / ред. А. В. Мольков. М.; Л.: Гос. мед. изд-во, 1930.
- Десять лет Октября и советская медицина (1917–1927 гг.) / под ред. Н. А. Семашко. М.: Изд-во Наркомздрава РСФСР, 1927.
- Еремеева А. Общий враг красных и белых – тиф // Родина. 2020. № 6. С. 126–129.
- Ершов В. С. Дом санитарного просвещения и его работа. М.: Изд. института санитар. просвещ., 1949.
- Житомирский В., Островский А. Семь зараз убьем зараз: санитарный лубок в 2-х картинах. М.: Жизнь и знание, 1926.
- Зильбер Л. А. Операция «Руда» // Наука и жизнь. 1966. № 12. С. 55–63.
- Игнатова А. И. Новые архивные материалы к биографии С. Н. Волконской – основателя и первого директора Московского областного института санитарной культуры // Институт истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова: материалы науч. конф. (г. Москва, 19–23 марта 2018 г.). М.: Янус-К, 2018. С. 111–114.
- Идзон М. «Дядя Санпросвет идет...» // Огонек. 1930. 10 марта. № 7. С. 13.
- Калмыки. Исследование санитарного состояния и запаса жизненных сил / ред. А. В. Мольков. М.; Л.: Госиздат, 1928.
- Кирик Ю. В., Ратманов П. Э., Шеноева П. А. Институализация социальной гигиены в Советской России в 1920–1930-х годах в международном контексте // Дальневосточный медицинский журнал. 2020. № 1. С. 85–94.
- Кукуй И. Ничевоки России – Дада Запада, или Диктатура ничевочества над искусствами // Revolution und Avantgarde / Anke Niederbudde, Nora Scholz (ed.) Berlin: Frank and Timme Verlag, 2018. S. 209–222.
- Лавров А. В. С. Заяицкий – корреспондент Максимилиана Волошина // Toronto Slavic Quarterly. 2012. № 40. P. 182–205.
- Лапин К. В. Санитарное просвещение: руководство по организации и методике санитарного просвещения для среднего медицинского персонала / в обраб. Ф. Ю. Бермана; под общ. ред. С. Н. Волконской. М.; Л.: Гос. мед. изд-во, 1932.
- Лебина Н. Б. Повседневная жизнь советского города: нормы и аномалии, 1920–1930 гг. СПб.: Журнал «Нева», 1999.
- Манышев С. Б. Мать и дитя в ранней советской политике: случай Дагестана // Журнал исследований социальной политики. 2019. Т. 17. № 1. С. 75–88.
- Массовая санитарно-культурная работа на предприятии (в помощь врачу здравпункта) / под ред. И. Липковича и др. Л.: Дом санитарной культуры Ленздравотдела, 1933.
- Мороз А. И., Мороз В. В. Деятельность Забайкальского губернского отдела здравоохранения по санитарному просвещению в 1923–1926 гг. // История медицины. 2019. № 3. С. 181–188.
- Некрылова А. Ф. Вклад И. П. Еремина в изучение восточнославянского народного театра кукол // Русская литература. 2015. № 2. С. 104–113.
- Нестеренко А. И. Санитарное просвещение в РСФСР. Становление и начальный период развития (1917–1921 гг.). / ред. Л. С. Боголепова. М.: б. и., 1971.
- Новикова И. Театр санитарного просвещения [Электронный ресурс] // Российский государственный архив научно-технической документации. URL: https://rgantd.ru/arh-docs/vov/teatr-sanitarnogo-prosveshcheniya/ (дата обращения: 27.05.2021).
- Огудин В. Атторы – аптекари народной медицины мусульманского Востока // Этнографическое обозрение. 2001. № 9–10. С. 112–130.
- Очерки по истории советского санитарного просвещения / под ред. И. С. Соколова. М.: б.и., 1960.
- Пашков К. А., Салакс Ю. М., Бергер Е. Е., Чиж Н. В. Тексты в экспозициях медицинского музея М.: Моск. гос. мед.-стоматолог. ун-т, 2017.
- Пашков К. А., Бергер Е. Е., Туторская М. С., Слышкин Г. Г., Чиж Н. В. Игры по истории медицины. М.: Моск. гос. мед.-стоматолог. ун-т, 2020.
- Пашков К. А., Дмитриев А. Н. Последний царский министр: Н. К. Кульчицкий (1856–1925) между наукой и политикой // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2021. Т. 29. № 3. С. 553–559.
- Первое Всероссийское совещание по санитарному просвещению / под ред. Л. М. Исаева. Смоленск: Гос. изд-во, 1922.
- Полинский Б. Санитарное просвещение как метод антирелигиозной пропаганды. Харьков: Научная мысль, 1930.
- Посадский А. В. Медицина Белого Юга в Гражданской войне: структуры, решения, повседневность // Новейшая история России. 2020. Т. 10. № 31. С. 315–329.
- Ранов А., Рок Р., Сухаребский Л. Вам (От ничевоков чтение) / ред. Л. М. Сухаребского. М.: Хобо, 1920.
- Ранов А. И. Театр санпросвета на Украине. Харьков: Научная мысль, 1930.
- Ранов А. И. Страж здоровья: Из истории санитарно-эпидемиологической службы Курганской области. Челябинск: Южно-Уральское книжное изд-во, 1968.
- Ранов А. Немного о ничевоках // Revolution und Avantgarde / A. Niederbudde, N. Scholz (ed.) Berlin: Frank and Timme Verlag, 2018. S. 218–226.
- Санитарная культура / под ред. С. Н. Волконской и М. С. Лебединского. М.: Изд-во Мособлисполкома, 1931.
- Сборник сценических материалов по санпросветработе: Сценические проработки Дома санитарного просвещения Н.К.З. Грузии. Сезон 1923–24. Тифлис: Санпросвет-подотдел народного комиссариата здравоохранения Грузии, 1924.
- Сейфульмулюков И. К. Санитарное просвещение среди коренного населения Узбекистана: (Материалы к истории возникновения и развития Санпросвета среди коренных национальностей Средней Азии). Ташкент: б. и., 1929.
- Сейфульмулюков И. К вопросу о табибизме в Узбекистане // Медицинская мысль Узбекистана. 1928. № 9–10. С. 63–71.
- Сироткина И. Е. Психопатология и политика: становление идей и практик психогигиены в России // Вопросы истории естествознания и техники. 2000. № 1. С. 154–177.
- Сталь Е. Живой журнал по санпросвету / ред. А. И. Ранова. Харьков: Научная мысль, 1929.
- Старый и новый быт: сб. / под ред. проф. В. Г. Тана-Богораза. Л.: Госиздат, 1924.
- Страшун И. Д. Десять лет Октября и десять лет санитарного просвещения. Свет и тени // Гигиена и эпидемиология. 1927. № 10. С. 66–75.
- Страшун И. Д. Русская общественная медицина в период между двумя революциями (1907–1917). М.: Медицина, 1964.
- Сухаребский Л. М. Обзор санпросветительных кинофильмов за 10 лет пролетарской революции (1917–1927). М.: Мосздравотдел, 1928.
- Телков Б. Н. Сохранить здоровье народа! История санитарно-эпидемиологической службы Свердловской области. Екатеринбург: б. и., 2012.
- Трахтман Я. Н. Санитарное просвещение в отрывках художественной литературы. М.: Изд-во Наркомздрава РСФСР, 1928.
- Трахтман Я. Н. К методике изучения санитарной грамотности населения // Гигиена и эпидемиология. 1929. № 6. С. 52–58.
- Трахтман Я. Н. Опыт изучения санитарной грамотности домашних хозяек // Социальная гигиена. 1930. № 1–2. С. 90–102.
- Указатель литературы за 1917–1947 гг. по вопросам санитарного просвещения: (Организация, содержание и методика) / Сост. И. Н. Яковлев. М.: Центр. ин-т сан. просвещения, 1949.
- Утенков М. Д. Знахарство – дебри тьмы // Цехновицер О. В., Еремин И. П. Театр Петрушки. М.; Л.: Гос. изд-во, 1927. С. 154–163.
- Фролова Ю. Г. От «санитарной обороны» к «личной профилактике»: исторический контекст развития отечественной психологии здоровья // Философия и социальные науки (Минск). 2009. № 3. С. 97–101.
- Шаламов В. А. Санитарное просвещение Сибири в 1920–1930-е годы // Сибирский медицинский журнал (Иркутск). 2013. № 2. С. 120–122.
- Шерстнева Е. В., Егорышева И. В., Гончарова С. Г. Медицина городских общественных самоуправлений в России. М.: Шико, 2017.
- Шерстнева Е. В. Организация санитарного просвещения населения в первые годы советской власти // Бюллетень Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н. А. Семашко. 2015. № 7. С. 121–125.
- Шишкин А. П. Государственный институт социальной гигиены НКЗ РСФСР и его роль в развитии социальной гигиены, 1919–1934 гг.: автореф. дис. … канд. мед. наук. М., 1970.
- Шоломович А. С. Детский поход на взрослых / под ред. Санпросвета Мосздравотдела. М.: Мосздравотдел, 1926.
- Энгельштейн Л. Ключи счастья. Секс и поиски путей обновления России на рубеже XIX–XX веков. М.: Терра, 1996.
- Яковенко В. А. Здоровье населения и социальная стратификация в публицистике Н. А. Семашко (1918–1928 гг.) // Россия и современный мир. 2020. № 3. С. 191–203.
- Beer D. Renovating Russia: The human sciences and the fate of liberal modernity, 1880–1930. Ithaca: Cornell University Press, 2008.
- Kosenko O., Polianski I. J. Der Tanz der kleinen Spirochäten // Der Urologe. 2021. Т. 60. № 5. С. 628–639. https://doi.org/10.1007/s00120-020-01133-9
- Krementsov N. L. Revolutionary experiments: the quest for immortality in Bolshevik science and fiction. Oxford: Oxford University Press, 2014.
- Mogilner M. Toward a History of Russian Jewish “Medical Materialism”: Russian Jewish Physicians and the Politics of Jewish Biological Normalization // Jewish Social Studies: History, Culture, Society. 2012. Vol. 19. № 1. С. 70–106. https://doi.org/10.2979/JEWISOCISTUD.19.1.70
- Pawley S. Revolution in health: nervous weakness and visions of health in revolutionary Russia, c. 1900–31 // Historical Research. 2017. Т. 90. № 247. С. 191–209. https://doi.org/10.1111/1468-2281.12169
- Polianski I. J., Kosenko O. Nervosität und theatrale Hygieneaufklärung im Sowjetrussland der 1920–30er Jahre // Berichte zur Wissenschaftsgeschichte. 2020. Т. 43. № 3. S. 430–456. https://doi.org/10.1002/bewi.202000008
- Polianski I. J., Kosenko O. The «proletarian disease» on stage Theatrical anti-tuberculosis propaganda in the early Soviet Union // Microbes and Infection. 2021. https://doi.org/10.1016/j.micinf.2021.104838
- Polianski I. J., Tutorskaya M., Kosenko O. «Sieben Plagen auf einmal schlagen» – Theatrale Hygienepropaganda und Infektionskrankheiten in der Sowjetunion der 1920-er–40-er Jahre // Berichte zur Wissenschaftsgeschichte. 2021. Т. 44. № 1. S. 44–73. https://doi.org/10.1002/bewi.202000028
- Solomon S. G. Social Hygiene and Soviet Public Health, 1921–1930 // Health and Society in Revolutionary Russia / eds. S. G. Solomon, J. F. Hutchinson. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1990. P. 175–199.
- Solomon S. G. The expert and the state in Russian public health: continuities and changes across the revolutionary divide // The History of Public Health and the Modern State / D. Porter (ed.) Amsterdam: Rodopi, 1994. P. 183–223.
- Solomon S. G. The Limits of Government Patronage of Sciences: Social Hygiene and the Soviet State, 1920–1930 // Social History of Medicine. 1990. Vol. 3. P. 405–435.
- Soviet medicine: Culture, practice, and science / Ed. by Bernstein F. L., Burton C., Healey D. DeKalb: Northern Illinois university press, 2010.
- Starks T. The Body Soviet: Propaganda, Hygiene, and the Revolutionnary State. Madison: The University of Wisconsin Press, 2008.
- Sumpf A. Bolcheviks en campagne. Paysans et éducation politique dans la Russie des années 1920. Paris: CNRS Éditions, 2010.
- Tetzner T. Der kollektive Gott: Zur Ideengeschichte des ‘Neuen Menschen’ in Russland. Göttingen: Wallstein Verlag, 2013.