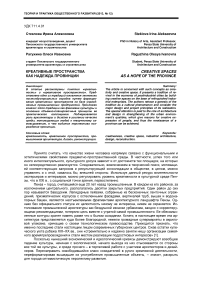Креативные пространства как надежда провинции
Автор: Стеклова Ирина Алексеевна, Рагужина Олеся Ивановна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Культурология
Статья в выпуске: 12, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены понятия «креативность» и «креативное пространство». Представлена одна из традиций оживления экономики постиндустриальных городов путем формирования креативных пространств на базе упраздненных промышленных предприятий. Прослежен генезис этой традиции как феномена культуры и основные объемно-планировочные принципы ее практического воплощения. Подчеркивается роль архитектуры и дизайна в усилении качеств среды, мотивирующих людей к творческому самовыражению, в чем видится перспектива возрождения провинции.
Креативность, креативное пространство, промышленная архитектура, дизайн, реконструкция
Короткий адрес: https://sciup.org/14935155
IDR: 14935155 | УДК: 711.4.01
Текст научной статьи Креативные пространства как надежда провинции
Принято считать, что качество жизни человека напрямую связано с функциональными и эстетическими свойствами предметно-пространственной среды. В частности, успех того или иного интеллектуального, культурного досуга зависит и от достоинств тех площадок, на которых он непосредственно реализуется. Следовательно, вовлечением в творческий поиск, мотивацией соответствующих запросов и результирующей консолидации в обществе, в целом, можно управлять и с этой, казалось бы, внешней стороны. Используя данный ресурс влиятельности экстерьеров и интерьеров, можно регулировать уровень креативности в культурной среде Пензы, что в XXI в., с социальной точки зрения, первостепенно.
Пенза – город, считавшийся еще 20 лет назад промышленным. В каждом из его районов, за исключением центрального, располагались десятки закрытых предприятий. Один район до сих пор называется Заводским. Лапидарные пейзажи, собранные из бесконечных ленточных ограждений, призматических корпусов с остекленными фасадами, вертикалей труб, вышек и водонапорных башен, являются неотъемлемыми фрагментами архитектурного ландшафта Пензы. Однако без официального статуса их целостность никому не интересна, никем не охраняется. Истолкование промышленной архитектуры как бездушной изнанки урбанизма, заодно с корректирующими рекомендациями, потеряло цель вместе с утратой самой промышленности. Ее обессмысленные контуры хранят память разве что о былом созидании. Кстати, в настоящее время эта архитектура представляется куда более благородной, нежели громадные супермаркеты в акриловой упаковке, кричащие о своем технологическом превосходстве. Приходится признать, что именно последние стали настоящим лицом современных губернских центров. Сжав остатки купеческого уюта рубежа XIX–XX вв., они «стремительно и надежно заняли нишу организации семейного времяпрепровождения и стали местом реализации подростковых интересов» [1].
Поскольку нынешний экономический и идеологический кризисы демонстрируют всеобщее падение культуры, начиная с экологической, начало выхода из них отыскивается со стороны все той же культуры, и среди прочего – в терпеливой работе с участием архитекторов и дизайнеров. Перенаправить освободившийся класс созидателей в русло креативной деятельности, переформатировав вышедшие из употребления промышленные объекты, – значит, раскрыть для города оптимистическую перспективу развития.
О креативности как природной творческой потенции чего-то, по отношению к среде и пространству, громко заговорили в последнее десятилетие XX в. Вектор креативности, интенсифицирующий совершенствование феномена того или иного масштаба, признан абсолютной ценностью и надеждой нового тысячелетия с характерным выводом в предельно зрелищное пространственное измерение. Соответствующая идеология была оглашена в ЮНЕСКО С. Эвансом: «Такие места – они не только для работы, но и для жизни, для общения и для генерирования общих идей» [2] . С тех пор всевозможные варианты территориальной локализации культурного производства и создания новых идей связываются в некоторую типологию креативных пространств, где к уже традиционным зонам, кластерам и лофтам подключаются все новые единицы.
О реальном продвижении стратегии креативности говорят каждый раз, когда на базе угасших фабрик и заводов, занимающих от одного корпуса до нескольких кварталов, продолжают собираться различные производства, экспозиционные и развлекательные площадки, студии, залы, клубы, классы, гостиницы, офисы, кафе и т.д.: «Если главным вызовом индустриального периода развития было обеспечение максимального количества людей типовыми необходимыми благами: пространством, пищей, безопасностью – то главным вызовом нового периода, очевидно, является увеличение разнообразия индивидуальных стратегий на фоне непрекра-щающегося производства тех же благ» [3]. Итак, в сегодняшней практике под организацией условий, стимулирующих индивидуальную креативность, подразумевают паритетную реновацию процессов и пространств, вдохновляющих, мотивирующих друг друга.
Разумеется, понимание креативности пространства появилось не вдруг, созревая и укореняясь эмпирически, в длительном опыте возрождения и преумножения жизнеспособности архитектуры конкретного назначения. Начало этого движения с сопутствующим осмыслением принято выводить из истории Нью-Йорка периода Великой депрессии, когда промышленность пришлось переводить на окраины, а остановившиеся фабрики Манхэттена сдавать внаем. Несомненные функциональные преимущества опустелых площадей и, прежде всего, их расположение, кубатура, высота, привлекли богему. Сначала там возникли квартиры, быстро притянувшие к себе студии и галереи – лофты, авангардный шик которых, прежде всего Factory Энди Уорхола, заразил всю Америку и Европу. Чуть позже стали осваиваться участки между ними – в разоренные промышленные комплексы въехали музеи, культурные и деловые центры, экспозиционные объединения и т.д.
Сегодня в лофтах Нью-Йорка, Лондона, Парижа, Берлина, Гамбурга, перешагнувших пик моды в 1950-е гг., по-прежнему живут звезды шоу-бизнеса, работают лидеры актуального искусства. А на интегрированных территориях бывших предприятий процветают: в Хельсинки – Cable Factory, в Амстердаме – Melkweg, в Лондоне – Tea Factory, в Милане – Superstudio и т.д. Здесь производятся те новые смыслы, которые становятся самым востребованным товаром в разных сферах экономики. В профессиональном обороте нарабатывается особое понимание идеальных свойств креативной среды и объемно-планировочных подходов к их реализации, предопределенных условиями формирования, культурными накоплениями и запросами неординарного потребителя. Здесь наблюдается, во-первых, отказ от жесткой разбивки по конструктивным сеткам в пользу свободы, интеграции и обеспечения трансформаций пространства; во-вторых, форсированное восполнение образного дефицита в создании острых дизайнерских провокаций к диалогу, к сотворчеству, к самодеятельности, в прямом, неиспорченном смысле слова.
В последние годы проблема стимулирования креативности в обществе, в частности, устройства креативных пространств, накрыла и Россию. Разумеется, европейский опыт подвергся первому испытанию в столицах и выдержал его. Так, в Москве функционируют «Винзавод», ArtPlay, Flacon, «Даниловская мануфактура», «Красный октябрь» и т.д.; немалую популярность в Санкт-Петербурге завоевали Rizzordi Art Foundation, «Ткачи», «Новая Голландия». Затраты на создание креативных пространств оправдали себя и в крупных городах – в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре. К сожалению, сопоставимые и не менее обнадеживающие резервы провинции блокируются опять-таки торговлей.
Сегодня есть понимание, что наследие промышленности – неотъемлемая часть национального достояния и средовой ресурс социальной эволюции. Требуется переосмыслить и раскрыть недоступные ранее территории в культуру, дать им вторую жизнь, подобрав ради этого архитектурно-дизайнерские методы примирения смелых художественных экспериментов с консервацией, реставрацией, реконструкцией и т.п. Поскольку в рутине творческие потенции индивидуума подавляются, креативности противопоказана повседневность. В устремлении к повышенной смысловой насыщенности в пространстве ей не нужны ориентиры банального комфорта, утилитарной пользы. Более того, есть основания полагать, что для соотечественников, увлеченных созидательным порывом за границы повседневности, неординарные смыслы пространства культивируются в соответствующей по оригинальности визуальной образности.
Запасы креативности неиссякаемы; и только от созданных условий зависит полнота их отдачи. От обнаружения смыслов среды и мастерства их закрепления в повороте к человеку зависит успех места, измеряемый и коммерчески. Энергия, исторически накопленная местом, закрепленная в архитектурных и дизайнерских метафорах, пробуждает дремлющие позитивные способности, устремления, выгодные для взаимного развития человека и среды. Конечно, городу необходимо возрождение и перерождение экономического каркаса с сопутствующей инфраструктурой, а также культурная перспектива с программой создания креативных пространств, способной вызвать открытое соревнование архитектурно-дизайнерских идей.
Ссылки:
-
1. Дубинина О.А. Здание библиотеки – интеллектуальный потенциал, интеллектуальная архитектура // Библиотечное дело. 2010. № 32. С. 10–12.
-
2. Тенденции: КК – Креативный кластер. URL: http://tisk.org.ua/?p=4064 / (дата обращения: 01.01.2012).
-
3. Словарь основных понятий. URL: http://www.progressor.pro/other/slovar-osnovnyx-ponyatij/ (дата обращения:
01.01.2012).