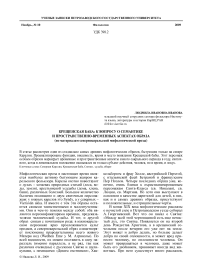Крещенская баба: к вопросу о семантике и пространственно-временных аспектах образа (по материалам северно-карельской мифологической прозы)
Автор: Иванова Людмила Ивановна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 10 (104), 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрен один из стадиально самых древних мифологических образов, бытующих только на севере Карелии. Проанализированы функции, внешность, время и место появления Крещенской бабы. Этот персонаж особым образом маркирует временные и пространственные аспекты самого сакрального периода в году, святочного, когда в лиминальном положении оказывался не только субъект действия, человек, но и время, и локус.
Северная карелия, крещенская баба, святки, судьба, оберег
Короткий адрес: https://sciup.org/14749502
IDR: 14749502 | УДК: 398.2
Текст научной статьи Крещенская баба: к вопросу о семантике и пространственно-временных аспектах образа (по материалам северно-карельской мифологической прозы)
Мифологическая проза в настоящее время является наиболее активно бытующим жанром карельского фольклора. Карелы охотно повествуют о духах – хозяевах природных стихий (леса, воды, земли), крестьянской усадьбы (дома, хлева, бани), различных болезней. Большое количество быличек посвящено и двум святочным персонажам: у южных карелов это Syndy, а у северных – Vierissän akka. И вместе с тем эти образы остаются самыми таинственными и малоизученными. Они в чем-то похожи между собой: оба являются персонификаторами времени, предсказателями человеческой судьбы. И тот, и другой образ связан с почитанием рода: в южнокарельском персонаже ярко прослеживается культ предков, а севернокарельский образ олицетворяет поклонение прародительнице всего живого Матери вод (Wedhen Eme у М. Агриколы). По всей видимости, их можно поставить в одну параллель (именно параллель, а не ряд, так как различия очевидны) с русскими Святке и шули-кунами, с немецкими «Диким охотником», Хак
кельбергом и фрау Холле, австрийской Перхтой, с итальянской феей Бетраной и французским Пер Ноэлем. Четыре последних образа уже, конечно, очень близки к охристианизированным персонажам Санта-Клауса (св. Николая), св. Люции, св. Мартина. Но хотя они выступают в основном в качестве дарителей для детей, в них, как и в самых древних образах, присутствуют и положительные, и отрицательные черты.
В конце XIX века мифологические рассказы о нечистой силе в Петрозаводском уезде собирал А. Георгиевский. Вот что он писал о Святке: «Между всей этой чертовщиной есть еще нечистый дух, это Святке. Появляется он на второй день Рождества Христова, а в крещенский сочельник после вечерни его уже нет на земле. Этот может и добро делать, но больше делает добра по своей оплошности, и может вред принести человеку, по оплошности человека. Он может превращаться в человека, даже может быть его двойником, принимает иногда вид животных. Про него существует много рассказов, но прежде должен сказать, что он не может даже перешагнуть черты на снегу и полу, проведенной чем-либо железным. Ходя в Святки слушать, делают около себя круг, на несколько сажен в диаметре, проводя, чертя чем-либо железным, тогда Святке ходит около черты, а в круг пойти не может» [2; 61].
Карельские мифологические образы Syndy и Vierissän akka хотя и схожи со всеми этими святочными образами, распространенными по всей Европе, но все-таки занимают несколько иную нишу в народном представлении и сохранили в себе весьма глубокую архаику. Сразу хотелось бы остановиться на правильном толковании и переводе слов Vierissän akka и Vierissän keski. Он важен не только в языковом, но и в этнографическом, и даже шире – в ментальном отношении. Обычно их переводят, ориентируясь на русский язык, как Святочная баба и Святки. Это не совсем верно. Vierissän keski (Vierissä, Vieristä, Vie-risty), безусловно, было для карелов, как и для русских, священным, сакральным временем года. Но в обоих этих карельских названиях подчеркивается как бы приоритет Крещения перед Рождеством. Vieristy – это Крещение, следовательно, Vierissän akka – это Крещенская баба, а Vierissän keski – это крещенский промежуток. То есть карелы, восприняв многие православные обряды путем наложения на древние языческие, тем самым подчеркнули бóльшую для них значимость Крещения. Рождество – это день рождения Иисуса, день, в который Бог отправил на землю Спасителя. Божий Сын своим рождением, а затем мученической смертью взял на себя все грехи людей, поверивших в него. Древним карелам было трудно это понять, так как они привыкли заслуживать отпущение грехов у своих многочисленных богов различными жертвоприношениями и магическими обрядами. В спасение таким простым способом, просто через веру, поверить было трудно. Гораздо более близким и понятным оказался обряд водного крещения. Во-первых, сам обряд омовения – очищения водой – уходит корнями в язычество. Об этом пишет автор Густынской летописи, сообщая, что до сих пор продолжают поклоняться языческим богам: Хорсу, Дажбогу, Стрибогу, Семарглу (которых он называет бесами): «…в день пресветлого Воскресения Христова, собравшеся юнии и играюще, вметают человека въ воду, и бывает иногда действомъ техъ боговъ, си есть бесовъ, яко вметаемый во воду или о дерево или о камень въ воде разбиваются и умирают, или утопают; по иныхъ же странахъ не вкидаютъ въ воду, но токмо водою обливаютъ, но единаче тому же бесу жертву сотворяютъ» [9; 116]. Те же языческие летние Святки, время разгула, предания греху, «купальские ночи», заканчивались всеобщим купанием. А после принятия христианства зимой, в самые лютые крещенские морозы, 19 января, в последний день пребывания Vierissän akka на земле, у карелов этот обряд осуществ- лялся прямо в проруби, для чего нужно было проявить личное мужество и продемонстрировать перед Богом большое желание смыть с себя грехи. Назывался он «kävvä Jordanah» («ходить на Иордан»). Человек прыгал в прорубь, освященную служителем веры, а потом прямо в рубашке или ферези мокрый бежал звонить в церковные колокола (безусловно, это уже влияние библейского сюжета о крещении в р. Иордан, в том числе Иисуса Христа). И название самого праздника произошло от слов Vezi ristu, vein ristu, то есть крещение, освящение воды (букв. «водный крест»).
Таким образом, уже в терминах, связанных со Святками (Vierissän akka, Vierissän keski), у карелов на первый план выходит обряд освобождения человека от годовых грехов.
Святки (это период с Рождества, 7 января, до Крещения, 19 января) – совершенно особый, самый главный праздник годового цикла. Как пишет В. Н. Топоров, «это состояние, когда время останавливается, когда его нет… Старый мир, старое время, старый человек “износились”, и их ожидает распад, смерть… В таких условиях спасти положение может лишь чудо, равное чуду первотворения, когда хаос был побежден и установилась космическая организация. Нужно идеально точное воспроизведение прецедента, того, что имело место “в начале”, “в первый раз”… Для этого… требуется определить то место и время, где состоится воспроизведение прецедента» [12; 330]. Именно это ритуальное действо и происходит в сакральное время (Cвятки, полночь) и в сакральном месте (перекресток, прорубь). Закрепляется все магией чисел, которым придавалось сверхъестественное, «космизирующее» значение. «Числа становились образом мира и отсюда – средством для его периодического восстановления в циклической схеме развития для преодоления деструктивных хаотических тенденций» [12; 629]. Для того чтобы пойти слушать Крещенскую бабу, требовалось не менее трех или пяти человек, их количество обязательно должно было быть нечетным. Вокруг слушающих трижды чертили круг (всегда по солнцу или дважды по солнцу и один против). Подчеркивало и увеличивало символичность цифр произнесение магического стиха-формулы «Что одно?» («Mikä yksi?»), в котором персонифицируется и одновременно продуцируется новое сотворение макрокосма (Млечный Путь), первопредметов и микрокосма (человек).
Персонаж Крещенской бабы, бытующий на севере Карелии, видимо, сохранил более архаичные черты, чем южнокарельский Сюндю. Уже из названия Vierissän akka видно, что это женский образ. Вероятно, это всевидящее и всезнающее существо когда-то олицетворяло мифическую прародительницу, покровительницу рода. Ведь, с одной стороны, «женское начало» сопоставляется с природой, приравнивается к ее производительным и творческим силам, оно представляется воплощением жизненной энергии и идеи плодородия. С другой стороны, та же Vierissän akka порой воспринимается как нечистая сила, причиняющая зло человеку. Как пишет Х. А. Хаберкирова, издревле многие женские мифологические персонажи «представали покровительницами плодородия. В последующие эпохи эти образы переосмыслились и получили негативную окраску. Причин этому несколько: рост рационального знания о природе и человеке; развитие культуры; “выветривание веры” (выражение Б. А. Рыбакова) в магическую силу женщин; формирование пантеона мужских божеств; развитие монотеистической религии; изменение социальных отношений в обществе и снижение статуса женщины» [13; 94]. По всей видимости, произошло наслоение на древний языческий персонаж новых христианских воззрений. Об этом говорит уже и название бабы – «Vieristän», то есть Крещенская баба. И постепенно сакральная прародительница, покровительница рода превратилась в опасную силу, враждебную людям, но еще сохраняющую некоторые свои позитивные черты. Vilno Jurinoja, родившийся в 1901 году в д. Akonlahti, пишет, что Vierissänakka – это «yliluonnollinen näkymä-tön henki»; «pelättävä, vihainen henki» (сверхъестественный, невидимый дух; устрашающий злой дух) [15; 124–125].
Из мифологических рассказов видно, что в последнее время Vierissän akka чаще всего представляют как хозяйку воды, водяного и так же называют: «Häneltä kyzytäh, vedehizeltä. A hän ei ni mitä virkka, ei ni mitä» – «У него спрашивают, у водяного. А он ничего не отвечает, ничего» (Фон. 1547/3)1. «Šiitä hiän noušou šieltä, še vienemäntä muka noušou» – «Потом она поднимается оттуда, это хозяйка воды якобы поднимается» (Фон. 1701/1). «Vanha rahvas kertoi, jotta se vetehini muka noušou sieltä, jotta se noštau vejen» – «Старики рассказывали, что это водяной якобы оттуда поднимается, что это он воду поднимает» (Фон. 2213/11). «Kuuntelomašša kun käytih niin šanottih, jotta sielä avannošša on Vierissänakka. Mie en käynyn ni konša. Käytih tytöt ja pojat, šanottih jotta šielä vetehini on avanošša» – «Когда слушать ходили, то говорили, что там в проруби есть Крещенская баба. Я никогда не ходила. Ходили девушки да парни, говорили, что там, в проруби, есть водяной» (Фон. 2929/9). Здесь можно сравнить карельскую Крещенскую бабу с ву-муртом (водяным человеком) вотяков, который «выходит из воды около Рождества, готовый напасть на человека, но становится опять безвредным в Крещение, когда совершаются его проводы» [8; 221].
В нескольких быличках Vierissän akka мыслится как совершенно враждебное человеку существо и вследствие влияния православия называется чертом, бесом, «плохой половиной». «Kun lehmän nahkalla yhet ištuuvuttih kuuntelo- mah ta se jäi ulkošella puolella kierroksen häntä. Häntya ei kieretty. Biessa veti šinne koškeh, juuri ei, hyvä kun hypättih» – «Когда одни на коровью шкуру сели слушать, а он остался за кругом, хвост. Хвост не обвели кругом. Бес утащил туда, к водопаду. Чуть не унес! Хорошо, что выпрыгнули» (Фон. 1595/4). «Totta se oli niistä, kun piruo piti varata, ei pitän ni kunnepäin kaččuo» – «Видимо, в этом было что-то, потому что черта надо было бояться, нельзя было смотреть никуда» (Фон. 2213/11).
Подчас даже внутри одного мифологического рассказа Vierissän akka называется и водяным, и чертом. Это опять же, видимо, более позднее наслоение, когда уже на смену вере в силу природных стихий пришло христианство с четким противопоставлением Единого Бога Отца, Сына и Духа многочисленному пантеону различных духов-покровителей, свергнутых вместе с Люцифером.
Иногда из сюжета былички трудно понять, олицетворяется ли сама Vierissän akka с чертом или он только приходит ей на помощь в случае нарушения слушающими каких-либо правил. В одном из рассказов это существо прямо названо «praka» («враг») и живет оно в лесу, то есть в локусе, чуждом для человека, по существу, в ином мире. «A viijes henki sillä sie pitäy olla, jotta sanotah siitä “praka” ottau, jos vain ei ole liikoja henkijä. – Kembä se on se praka? – Ka mihin mečässä kuutiessiutuu ta tulou ta ottau» – «…там пятый человек должен быть, иначе, говорят, “враг” возьмет, если нет лишнего человека. – А кто это, враг этот? – Дак который в лесу чудится, придет и возьмет» (Фон. 2219/25).
К примеру, когда тихвинские карелы в Святки ходили «слушать», они прямо вызывали чертей: «Ходили мы и на развилок дорог слушать. Возьмем заболонную лучину, этой заболонной лучиной проведем круговую черту и скажем: “Черти, явитесь! Черти, явитесь!” Это чтобы черти пришли в этот круг… Их так много пришло туда, что изо рта огонь, так изо рта огнем и пышет, да бегут…» [10; 206–207].
В качестве самой поздней версии можно представить вариант, в котором старообрядцы рассказывают, что детей пугали уже не Крещенской бабой, а Крещенской свиньей (Vierissän sika). Это уже, видимо, влияние библейского сюжета, где Иисус выгоняет нечистых духов из бесноватого в свиней (поэтому свинина у многих народов считается «грязным», оскверненным мясом). Крещенская свинья, как и «враг», приходит из леса2. «Vierissän keškie piettih. Vie-rissän šikua meilä straššaitih, što… Vierissän šika. Ei akka! Šika!.. En tiija, kuin še sanuo, mi še on… No štop lapšet varattais. Vierissän aikana še… Mistä še tuli, šinne i šai… Ei šanottu, mistä tuli. Mečäštä! Mečäštä naverno» – «Святки отмечали. Святочной свиньей нас пугали. Святочная свинья. Не баба! Свинья! Не знаю, как сказать, что это. Ну, чтобы дети боялись. Это во время Свя- ток… Откуда она приходила, туда и уходила… Не говорили, откуда приходила. Из лесу! Из лесу, наверно» (Фон. 3485/16).
Основным местом обитания Vierissän akka является прорубь. Именно сюда чаще всего приходят в Святки парни и девушки, чтобы услышать ее предсказания. В промежуток с Рождества до Крещения Vierissän akka вместе с поднимающейся водой выходит из проруби, общается со «слушающими» и наказывает тех, кто не соблюдает все тонкости обряда.
В одном из текстов сообщается, что накануне Крещения надо сделать крест на краю проруби, чтобы Vierissän akka могла выйти оттуда. «Še kun oli Vierissänkeški, kakši netälie, myö käymmä aina kuuntelomah Vierissän akkua… Siita kun tuli Vierissän vaššen še yö, šiitä šaopttih pitäy männä avannoilla, luatie Vierissänristi. Vierissänristi luatie – niin kuin tämän pituus päre panna, niin kuin rississä näin, kaksi. Šiitä panna kukkie ših rištih, kaunehie kukkie šinne rissin piäh, siitä panna še avannon laijalla. Jotta šiitä muka Vierissän akka hyppyäy avannošta, šen rissin nenäh ta šiitä mänöy jo pois, jo loppuu še hänellä oloaika, kun še Vierissänkeški loppuu» – «Когда были Святки, две недели, мы всегда ходили Крещенскую бабу слушать… А как наступала ночь перед Крещением, тогда, говорили, надо идти на прорубь, сделать Крещенский крест. Крещенский крест сделать – вот такой длины лучину поставить и положить крест-накрест так, две. Потом положить цветов на этот крест, красивых цветов поверх креста, и поставить его на край проруби. И вот так Крещенская баба выпрыгнет из проруби на верхушку креста. А потом она уже уходит прочь, уже заканчивается время ее пребывания, когда эти Святки заканчиваются» (Фон. 3350/11). Такие варианты наполнены более поздними во временном отношении деталями, привнесенными православием. Это и крест, сделанный из лучины и украшенный цветами, и ограничение времени пребывания в проруби Крещенской бабы только от Рождества до Крещения, и ее уход то ли в небо (где живет Бог), то ли в лес (где обитает «враг» человека черт).
Интересен сюжет, в котором рассказывается о том, что Vierissän akka можно повстречать и летом, в промежутке от Петрова до Ильина дня, в летние Святки. «Viirissän akka – še, šanotah, vienemäntä on. Vetehini še on. Miän kylaššä oli järveššä, še näky Petrun päivän ta Illän päivän välillä. Ftorovo avgusta on Il’l’än päivä. No šillä välillä hiän oikein eli. Se niin savautteli!» – «Крещенская баба – это, говорят, хозяйка воды. Это водяная. В нашей деревне была в озере, она показывалась в промежуток между Петровым и Ильиным днями. Второго августа Ильин день. Но в этот промежуток она активно жила. Она так плескалась!» (Фон. 3055/16–19).
Примечательно, что в этом сюжете Vierissän akka мыслится как хозяйка воды, соответственно и видят ее в таких же обстоятельствах. Однажды она попадает в тоню во время рыбалки и с бурлением уплывает из нее. В другой раз, в 1918– 1920 годах, ее пытались поймать финны в Руво-зере, они видели ее в образе черной женщины, расчесывающей волосы, которые сопоставляются с водяным червем, живущим в озере. «Se nousi – niin kun kontie mečässä kävelöy. Nousi ta ustuutuu rannalla, a kontiella ei ole piässä hivuksie. A tällä on hivukset. Ne suomelaset šanottih – istuu niin kun čelovekka, niin kun jouhimavot, kun ollah viešša – ne hänen hivukšet. Hän še puskaiččov nyt Petrun päivän ta Il'l'an välilla. Sillä välillä i niitä on meilä, kun kiviköt rannat Puvassa oli ennen (a nyt kun on meijän derevn'a vien alla) no niin niitä oli rannat täyvet – vihkoutuu semmoset tukut šitä hivušta... Ne hivušta laškou äijän nyt Pedrun päivän da Illän päivän välillä missä hän on. A talvella ei nouše, kun ei ken nošša» – «Она поднялась, как медведь в лесу ходит. Поднялась и села на берегу. Но у медведя нет волос на голове, а у этого волосы. Те финны говорили: сидит, как человек, и как волосатики (водяные черви. – Л. И.), которые в воде, – это его волосы. Она их выпускает в промежуток от Петрова до Ильина дня. В этот промежуток они есть у нас, ведь в Руве раньше каменистые берега были (сейчас-то наша деревня под водой), и вот их полные берега были, свиваются в такие кучи, эти волосатики… Этих волос она много выпускает, в промежуток от Петрова до Ильина дня, там, где она есть. А зимой она не поднимается, если только кто поднимает» (Фон. 3055/16–19).
В образе хозяйки воды изредка ее можно увидеть и весной. «Vierisänakasta mie sita sanon, että kun matkasimma nuotalta huomenekšella, matkasimma sieltä kymmenen kilometrin piästä, viruu, ajattelou, sielä rannassa. – Oliko se talvella vain kesällä? – Keviällä. Hän istuu siitä rannalla, piätäh suviksentelou, niin suusta... Siita istu, istu niin kuin čeloviekka rovno. A myö totta: ken se näin aivoin liikkehessä? Mänemmä oikein läššä, mänemmä, melkein tuon koulun ojan luokse. Vielä lähemmäksi, kuin laskou? Kačco, kačco da sylkie rävähytti. Da kun veteh pulškahti! Siitä kun läksi uallottomah, kačomma, što kuatau meila venehen! Siitä kun läksi mänömäh, niin mäne pois tieltä!» – «О Крещенская баба, я то расскажу, что мы возвращались с рыбалки утром. Проехали около десяти километров: лежит, думает, там на берегу. – Это было зимой или летом? – Весной. Она сидит там на берегу, волосы расчесывает. Сидит, сидит, ну как человек. А мы, правда: кто это так рано здесь? Подплываем совсем близко, почти как к ручью у школы подошли. Еще ближе, раз подпускает! Смотрела, смотрела, да как плюнет, да как в воду плюхнется! И как пошли волны! Смотрим: вот-вот перевернет у нас лодку! Потом как пошла, только с дороги уходи!» (Фон. 2511/13–14).
Vierissän akka в образе хозяйки воды может мстить за своего ребенка, пойманного людьми. «A kun tuossa Nil’malahessa kävimmä yhtä akkua, naista, kun ku oli rodn’a, niin kun siinä oli nellä ristipuuta. Myö sanomma: “Yhtä aikuako ne on kuoltu?” Hyö sanotah, jottä yhtä aikua. Kevyällä vetäy apajat, apajah tuli sen äpäreh, sen emännän äpäreh. No siita otetah se äpäreh sihi, jotta ottua pitäy – se naini. A yksi naini sanou, jotta elkä myö hänta ottakka että paha se tulou. A se räkisöy, niin pahua čorkattau, niin kuin omah mallih. Siita kun alkau niitä venehie uallottua. Se muamo. Da jarveh šuatettih. Siitä veneyvyttih muata päivällä, ni sano, unissah nähäh ne naiset: “Ottija miulta äpärehen, a mie teiltä otan kolme”. No i niin sykysyllä lahettih marjah, ni siinä kun on kivi kohassa, ni siina kuavuttih ne kolme, sihi kaikkien naisien, a yhen naisen sihi jatti, se kun sano: “Elkyä ottakka!” Niitä jo ihan selvä, että niitä on! Sita elkäh sanokah, että ei ole, ne ollah kun čeloviekat» – «А как там, в Нильмагубе, мы ходили к одной женщине-родственнице, там четыре креста было. Мы говорим: “В одно время умерли?” Они говорят, что одновременно. Весной, когда вытаскивали невод, попался ребенок, ребенок этот хозяйки. Тогда берут они этого ребенка: “Взять надо!” – говорит женщина. А другая говорит, что давайте не будем брать, а то беда будет. А тот урчит, так по-плохому верещит, на свой лад. Тогда как начало лодку волной раскачивать. Это мать. И выпустили в озеро. Потом легли спать днем и, говорит, видят во сне эти женщины: “Вы взяли у меня ребенка, а я у вас троих возьму!” И вот они осенью поехали за ягодами, и вот там камень на пути, вот там перевернулись те трое детей, а одной женщины ребенка оставила, той, которая говорила: “Не берите!” Они есть, на самом деле, они есть! Пусть не говорят, что нет, они как люди!» (Фон. 2511/13–14).
В одной из быличек говорится, что Крещенская баба может пнуть гадающих «мерзлым сапогом» «kulmallä kenkällä» (Фон 2648/17, 2648/25). Упоминания, что Vierissän akka и Syn-dy ходят в «замерзших сапогах», встречается довольно часто [4; 140–142].
То, что Крещенскую бабу иногда представляли в антропоморфном виде, подтверждает и до сих пор сохранившаяся в карельской деревне негативная оценка неряшливо одетой, растрепанной женщины. «”Hyvä olet Vierissän akka!” – hot ketä niin šanotah, ken on pahoin šuorintun, semmoni on. Viela ki nyt šanotah: “Tuo matkuan Vierissän akka”… Tatta še on ollun Vierissän akkana!» – «“Хорошая ты, Крещенская баба!” – хоть кому так говорят, кто плохо одет, такой. Еще и сейчас говорят: “Там идет Крещенская баба!” Точно, она была во время Святок!» (Фон. 3476/15–16).
Таким образом, самый древний сохранившийся пласт верований представляет Vierissän akka как женщину, живущую в воде. Изначально это, видимо, хозяйка воды, возможен даже перевод Vienеmä как Мать воды («emä» в том числе значит «мать»), то есть Божество воды. Первоначально с ней можно было общаться круглый год (для сравнения: в причитаниях, и особенно в заговорах, то есть наиболее древних жанрах, вода видится не только как ежедневно открытый путь прибытия в загробный мир, но и как постоянно доступное средство передачи информации умершим от живущих: «Puhtas vezi-vedyt, vie viеštizet…» – «Чистая вода-водица, отнеси весточки…»).
Позже, видимо, в результате христианизации, когда статус всех божеств – хозяев – духов природных стихий был снижен, низведен до отрицательного уровня, противопоставляемого триединому Богу, время общения, в том числе с Vierissän akka, было сокращено до летних и зимних Святок, сакральных времен года, когда на свободу выходит вся нечистая сила.
Подавляющее большинство сюжетов, дошедших до наших дней, соотносит Крещенскую бабу только с зимними Святками, с временем двух самых главных христианских праздников – Рождеством и Крещением. Ее охристианизированное имя связано с крещением воды, с ее освящением (здесь, возможно, видны корни ее былой глубокой почитаемости – ведь известно, что православная церковь пыталась смягчить переход от политеизма к монотеизму, заменяя почитание духов-божеств почитанием христианских святых).
В темпоральном отношении к более поздним, видимо, можно отнести не только те сюжеты, в которых присутствует крест, по которому Vierissän akka поднимается из проруби (Фон. 3350/11), но и те, в которых говорится, что она приходит из леса как «враг» человека (Фон. 3485/16), а особенно те, где она спускается (Фон. 2649/14) или поднимается в небо (Фон. 3476/15– 16). И в то же время крест, в Святки стоящий на краю проруби, можно соотнести с архаическим мифологическим образом мирового древа: под ним вода, нижний мир, вверху – небо, а сам он, украшенный цветами, символизирует «свой», человеческий, мир. И Крещенская баба, выходя в мир человека, поднимается именно на этот крест.
В некоторых сюжетах говорится о том, что у Крещенской бабы есть собачка (постоянный спутник южнокарельского святочного персонажа Сюндю), которая во время святочного гадания свои лаем показывает парням (девушкам) направление, в котором они женятся (выйдут замуж). «A hänellä on vielä pikkaraini koira. Še koira šiitä, mistäpäin ruvennou haukkumah, šinnepäin myö siitä naimisih mänemmä» – «А у нее еще есть маленькая собачка. Эта собачка, с какой стороны будет лаять, в той стороне мы и женимся» (Фон 3350/11).
В севернокарельской традиции чаще отмечается наличие у Vierissän akka коней, которые также предсказывают будущее тех или иных людей. Вильхо Юриноя вспоминает о своем односельчанине Филиппе (Hilippa), который пошел на лыжах из Шапповаары домой. «И вот, когда он подходил к Лехтониеми, вдруг со стороны Кованиеми на лед выскочила сначала одна ло- шадь, потом вторая, третья, четвертая! И как начали резвиться по льду, только снег столбом в воздухе стоит, и – пропали! Потом из Кованиеми повалил народ – черно! Плачут, кричат на разные лады! И снова – все пропали! Филипп никогда еще так не пугался, но все равно пошел в ту сторону посмотреть на следы – ничего, “даже мышка не пробегала”! А дед Емельян (Omeli) дома уже разгадал это видение: через четыре года какая-то беда для народа будет, может, голод, может, всем предстоит дальняя дорога» [15; 123–124]. Присутствие коней (как и собачки) рядом с образом Крещенской бабы еще раз указывает на то, что она воспринималась не просто как существо из иного мира, но и как древняя прародительница. В. И. Мансикка пишет, что «верования, по которым смерть или обиженные души умерших разъезжают на конях и поражают людей разными болезнями, встречаются и у других народов. Согласно древнегерманским воззрениям, смерть скачет на коне. От Хель, которая во время чумы скачет на трехногом коне, древние скандинавы пытались откупиться овсом» [9; 104]. В вепсской мифологии лошадь рассматривалась как перевозчик души умершего, особенно мужчины, в иной мир; ей приписывался дар предсказания [1; 271, 275]. А вообще конь – это спутник многих верховных языческих божеств: в колеснице, запряженной лучшими лошадьми, скачут и греческий Зевс, и славянский Перун, и хеттский Пирва.
Основной целью общения с Vierissän akka было стремление узнать грядущие события. Но, как пишет V. Jurinoja, ее слышат только редкие и избранные («vain harvat ja valitut senkuulevat»).
Иногда, в более ранних записях, она предсказывала будущее людей сама, не дожидаясь обращения к ней человека. Это проиллюстрировано в предыдущем примере. Тот же дед Емельян рассказывал, что пошел несколько лет назад в Святки на улицу. Была полночь. Вдруг слышит: в риге Ховатта доски строгают. Через несколько дней деда позвали для Ховатта гроб делать [15; 123].
В последние десятилетия былички повествуют о том, что Vierissän akka предсказывает будущее только в том случае, когда намеренно идут общаться с ней, «слушать» ее. Делается это именно в Святки, во-первых, потому что это самое сакральное, пороговое время года, а во-вторых, это самое тихое время, когда и животные закрыты в хлевах, и народ ходит мало. Предпочтительнее «слушать» в полночь, а иногда – под утро.
Чаще всего это делают на основном месте обитания Vierissän akka – у проруби (Фон. 1547/3, 1595/4, 1598/8, 1701/1, 2213/11, 2219/23, 2511/13–14, 2547/1, 2547/20, 2606/20, 2731/3, 2927/15, 3227/17–18, 3350/11). При этом надо соблюсти твердо установленный ряд строгих правил. На проруби никогда не ходят слушать поодиночке, чаще всего по три или пять человек
(на севере, в отличие от Южной Карелии, это могли быть не только девушки, но и парни); обязательно должно быть нечетное количество людей (как говорят рассказчики, «liika henki», то есть «лишний человек») (Фон. 2219/23, 2610/2, 3055/16–19). Непременным было присутствие «saattaja», то есть «отводящего», который совершит все обрядовые действия.
«Отводящий» приводит к проруби нечетное количество слушающих, расстилает на снегe невыделанную шкуру яловой коровы, на которую все садятся. Сверху накрывает большой полостью из овечьих шкур, чтобы все были плотно закрыты. Затем «отводящий» обводит острым железным лезвием (чаще всего это топор или нож) слушающих два раза по солнцу и один раз против (направление может варьироваться, но троекратность обвода непременна), все время читая при этом «умилостивляющие заговоры» (koko aijan lepytys loitsuja lukien). Уходит он спиной вперед и запечатывает следы печной заслонкой. После этого все в порядке: может начать слышаться.
Здесь следует отметить несколько моментов. Первый, что шкура должна быть обязательно невыделанной и от яловой, то есть неоплодотво-ренной, коровы. Тем самым как бы подчеркивается чистота, безгрешность, непорочность, а вместе с тем, природная естественность вещи, которая служит оберегом для «слушающих». Второе, что необходимо, – обвести трехкратный магический круг и вербально (читая заговоры), и реально (по снегу). О магическом круге (железной изгороди), который строится вокруг дома в Святки в процессе рассказывания сказок с целью предотвратить проникновение в него Vierissän akka и других нечистых духов, писала Н. А. Лавонен [7; 22–24]. Круг этот обводится чем-то острым и железным (топором, ножом), что могло служить оберегом, например, от проникновения в дом злых духов (такой металлический предмет втыкали в дверную притолоку, клали под постель младенца и т. д.). Позже круг этот могли обводить уже иконой или просто брали ее с собой как защиту от нечистой силы, дарованную Богом (Фон. 1595/4, 1701/1, 1702/17, 2219/23, 2648/25). Третье, что «отводящий» уходит, запечатывая свои следы печной заслонкой. В данном случае важно, что он не просто заметает, уничтожает следы, а делает это с помощью печной заслонки. Точно так же иногда магический круг обводят сковородником (особенно часто на юге). Все это вещи, имеющие отношение к дому и очагу, к культу огня и умерших первопредков (под печью мог жить домовой, под ней в древности хоронили своих умерших родичей). В данном случае вещи, сопричастные стихии огня, покровителям домашнего очага, могли выступать как защитники от нечистой силы. И четвертое: в процессе гадания «отводящий» должен все время читать особые заговоры (или в последних записях – молитвы). Таким образом, древнее слово «logos», которое было еще до сотворения мира, тоже выступает как оберег.
В процессе гадания, что бы ни случилось, нельзя двигаться. Чаще всего из проруби начинает подниматься вода, вместе с ней как бы выходит Vierissän akka. В более поздних быличках «слушающие» садятся уже не на шкуру, постеленную на снег, а на сани, иногда даже на двое-трое саней, поставленных друг на друга. И это неслучайно. В. И. Мансикка, изучая древнерусские летописи, обратил внимание, что русичи везли покойника к кладбищу на санях даже в летнее время. Так же и выражение в поучении Владимира Мономаха «сидя на санях» обыкновенно толкуется в смысле «при дверях гроба» [9; 102]. Таким образом, «слушающие», садясь на сани, тем самым старались, с одной стороны, приобщиться к миру мертвых и получить тайное знание о будущем; а с другой стороны, сани как предмет, связанный с миром мертвых, могли выступать как оберег, как средство помощи, которую стремились получить от первопредка. По всей видимости, тогда и сама Крещенская баба является пришелицей из потустороннего мира, которая по воде, если не подобно Харону доставляет умерших в новое царство, то, как в данном случае, приносит от них весть «слушающим».
Когда начинали уже непосредственно общаться с Крещенской бабой, необходимо было запомнить первое произнесенное слово, чтобы сказать его последним (Фон 1595/4). Тем, кто идет слушать на прорубь, следовало четко знать ответы на все десять магических вопросов, которые задает Vierissän akka: «Vierissän akka šiihi tulou, šiitä kyšyy: “Mikä ykši?” Myö šanommа: “Minä täššä?”
Mikä kakši? Šilmät piäššä.
Mikä kolme? Puašša jalkua.
Mikä n’ellä? Lehmän tissit.
Mikä viisi? Kiässä sormet.
Mikä kuuši? Reissä kaplašta.
Mikä seitsemen? Otavaššä tähtie.
Mikä kahekšan? Tynnyrissa vannehta.
Mikä yhekšän? Ihmisešša reikiä.
Mikä kymmenen? Kymmenen kynttä varpa-hissa». –
«Крещенская баба приходит туда, потом спрашивает: “Что одно?” Мы скажем: “Я здесь!”
Чего два? На лице глаза (букв.: на голове).
Чего три? У котла ножек.
Чего четыре? У коровы сосков.
Чего пять? На руке пальцев.
Чего шесть? В санях копыл.
Чего семь? В Медведице звезд.
Чего восемь? В кадушке обручей.
Чего девять? В человеке дырок.
Чего десять? Десять ногтей на пальцах ног» (Фон. 3350/11).
Иногда Крещенская баба задает вопрос: «Kallisko on česnokka kilo Vienašša?» – «Дорог ли килограмм чеснока в Беломорье?» (Фон. 2606/20).
Все слова надо было произносить без запинки, четко. Они, по мнению рассказчиков, не просто слова, а слова-творцы. «No Vierissän akkoa kuv varašima, se piti synti (=syntysanat) osata lukie. Joset osannut ni Vierissän akka vei!» – «Ну, раз Крещенскую бабу боялись, то надо бы заговор (=слова о рождении [творении]) суметь прочитать. Если не смог, то Крещенская баба утаскивала» [16; 582].
Этот тип гаданий, то есть «слушанье», иначе называется кледономантией. «Суть его, – по мнению Н. Ф. Сумцова, – заключается в том, что каждое слово, фраза, отдельное восклицание становится для слушателей кледоном, то есть между мыслью слушателя и словом говорящего, которые внешне никак не связаны, обнаруживается неожиданная семантическая связь» [5; 11].
Вторым по распространенности местом, где можно общаться с Vierissän akka, является перекресток трех дорог (Фон. 2927/15, 3055/16–19, 3227/17–18, 3476/15–16), сакральное пространство. На перекрестке слышны топот лошадей на дорогах мира, скрип саней, звон колокольчиков, покрики кучера. Все перестает слышаться так же внезапно, как и начинается. Тем самым Vierissän akka как бы показывает свою всеохват-ность и во временном, и в локальном пространстве. На перекрестке тоже надо сидеть на коровьей шкуре, плотно укрывшись, внутри магического круга.
Можно было слушать под окном хлева или бани (Фон. 3055/16–19), на пороге амбара или риги (Фон. 1547/3, 2511/13–14, 2927/15), у калитки (Фон. 3227/17–18), на крыльце сарая, у рога коровы (Фон. 2511/13–14), на задворках на только что подметенном (и принесенном в переднике) мусоре (Фон. 1547/3, 1595/4). Мотив гадания на жениха на куче мусора характерен и для баллад и свадебных песен: «…до восхода солнца девушка справляется со всеми домашними делами. Вынося мусор во двор, встает на мусорную кучу и слышит шум со стороны деревни, бряцанье сбруи» [11; 15]. Иногда он встречается и в эпических песнях:
Anni tyttö, aino tyttö
Nousi aioin huonteksella…
Pyhki pikku pirttisensa
Ul’os uksen, veräjän tookse
Seisattelih toppasille
Pakina kuului pajukoss
Hieno ääni heinikos
Kuului jury Jurkilas
(Munan matške Metsoilas)
(SKVR. O. II. 9. S. 55–56).
И только редкие смельчаки да сильные знахари могли слушать в самых тихих, таинственных местах: на кладбище, на крыльце часовни, у двери церкви. И уж в таких-то случаях обязательно должен быть «отводящий», который знает требуемые магические слова.
Крещенская баба может предсказать какие-то крупные события на длительный промежуток времени (Фон. 1701/1, 3055/6–9): какой будет предстоящий год (Фон. 3227/17–18), предстоит ли свадьба у слушающего (Фон. 2219/23, 3350/11), а также смерть родственников (Фон. 1547/3, 2219/23, 3055/16–19).
Если, к примеру, слышен грохот грозы, плач детей и стон женщин, то значит, будут войны или какие-то большие потрясения. Если девушка слышит звон бубенчиков, то она еще до того, как растает снег, выйдет замуж. Если строгают доски, звонят колокола – кто-то из близких слушающего умрет еще до следующих Святок. Если на крыльце амбара или риги слышны звуки молотьбы – будет урожайный год; если пересыпают зерно или глухо падают мешки – к заморозкам, неурожаю, голоду.
«И пока не прекратятся все звуки, ни в коем случае нельзя двигаться!» (Фон. 2213/11). «А уходить надо, не оглядываясь назад, чтобы ни чудилось за спиной!» (Фон. 1595/4). Этот мотив характерен как для греческой мифологии, так и для библейских рассказов. Достаточно вспомнить, как Орфей спускается в подземное царство мертвых и убеждает Аида отпустить любимую, и только из-за нарушения единственного запрета (не оглядываться) она навеки остается под землей. А в Ветхом Завете ангелы, посланные Богом, уводят из Содома семью благочестивого Лота, и только его жена, оглянувшись на, пусть и порочный, но все же родной город, остается стоять соляным столпом.
Две опасности подстерегают слушающих во время гадания, если будет нарушено хотя бы одно из установленных обрядовых правил. Во-первых, Vierissän akka может погнаться следом за тем, кто двинется или не сможет ответить на вопросы, и попытаться отрезать голову, если на нее не успеют надеть горшок (Фон.1547/3, 1701/1, 2219/23, 2511/13–14, 2606/20, 3055/6–9, 3055/16–19). Во-вторых, она может утащить за хвост шкуру, на которой сидят слушающие, если «отводящий» не придет на помощь (Фон. 1595/4, 1702/17, 2547/20, 3227/17–18).
«Šattuu, kun še mainittih jotta erähät kun oli käyty šielä kuuntelomassa avannoilla, ta siela oli lehmän nahka suuri ta häntä jäi siitä lehmän nahkašta siitä kierroksen ulkopuolella, ei ni tullun šinne. Šiitä hän še vetehini kun nousi avannošta, šiitä hännäštä veti ne koko kuuntelijajoukon šillä lehmän nahkalla, minne liennöy vienyn» – «Случалось, об этом вспоминали, когда кто-то пошел слушать туда, на прорубь, а шкура коровы была большая, и хвост этой шкуры остался за кругом, не попал туда. Тогда как водяной этот поднялся из проруби, и за хвост потащил всю эту группу слушающих на этой коровьей шкуре, куда-то утащил» (Фон. 3227/17–18).
Vilho Jurinoja пишет в своих воспоминаниях о жительнице деревни, которая пошла слушать Vierissän akka на крыльцо риги. И вдруг в пустой риге заржал жеребец. Она так испугалась, что, не дослушав, вскочила и попыталась побежать домой. Но шкура яловой коровы не пускала ее, и вдруг какая-то невидимая сила куда-то потащила. Дед Данила, который был «отводящим» этой женщины, почувствовал что-то неладное, поспешил к риге. «Он прочитал лучшие заговоры и спас женщину из беды. Крещенская баба начала тащить слушающую в Бесову глухомань, откуда бы она никогда обратно не вернулась» [15; 126].
«A mie muissan sen vielä, kun olin pikka-raisena: niin sitä diädinkä oli sen muamo. Ni hän rupei striäppimäh, nin siitä työnsi lapset kuun-telomah... Kun kuuntelomah ruvettih, niin kun kierrettih, kun vesi nousi kolmannella kertua, ni se sen kera itse nousi, sen vien keralla... Vierissän akka. No ni kun ašetutah tullah, ni kun akka juoksou, puat piäh! Yhellä ei ehtin panna, nin piän leikkai... Ni kun niat sie!.. Puat ne männäh, jotta piät ne männäh. Ni kolme tytärtä jäi eloh, a nelläs mäni, ei kerinnyn sillä patua... Se on ihan tosi!» – «А еще вот это помню, когда маленькая была: тетя, мать той девочки, она стала стряпать, а детей отправила слушать. Когда стали слушать, как обвели круг, когда вода поднялась в третий раз, и на этот раз сама поднялась с этой водой… Крещенская баба. Ну они как прибежали, остановились, женщина бегом – горшки на голову! Одной не успела надеть, той голову отрезало… Вот видишь как!.. Горшки те будто вместо голов. Трое дочерей осталось в живых, а четвертая погибла – не успела той горшок… Это истинная правда!» (Фон. 2511/13–14). Возможно, в данном случае горшок мыслится как маска, как способ обмануть Крещенскую бабу путем как бы перемещения детей в иной мир, в мир невидимых. К тому же это емкость именно для молока, которое воспринимается в мифологии как средоточие жизненной силы или души [6; 653]. Безусловно, соотносится горшок и с печью, с огнем, тем самым являясь эманацией домашних духов, тесно связанных с этим локусом и выступающих защитниками человека.
В исключительных случаях Крещенская баба делает большой подарок тому, кто не нарушит ни одного запрета: бросает прямо из проруби ключи. Если слушающий сумеет их поймать, то разбогатеет (Фон. 1702/17, 2602/20).
«Männäh siitä avannolla, sanotah. jotta ei pie nimitä virkkua. Pannah čuna, pannah avannolla, jotta čunan piällä issutah. Kerran höyrähti vesi, toisen höyrähti vesi, kolmannen kun höyrahti – ta iče hyö juoksomah, a heilä ei olis pitän juošša. Yksi oli rampa tytär. Hyö lykätäh se rampa tytär jai kylkeh ta... Hiän avuamet sillä rammalla tyttärellä kun lykkäi kätieh, a iče juoksi... Avuamet, jotta totta se on bohassukse!..» – «Пошли они к проруби, говорят, что надо молчать. Ставят сани, сани на прорубь, а сверху на сани садятся. Раз забурлила вода, второй забурлила, а третий раз как забурлила – они бежать, а бежать нельзя бы. Одна девушка была хромоножка. Они оттолкнули эту хромую девушку в сторону… А та ключи этой хромой девушке как бросит в руки, а сама [сле- дом за теми]. Ключи, наверняка, это к богатству!» (Фон. 2606/20).
Такое счастье постигает в быличках чаще всего именно увечных. Здесь трактовка может быть двойственной. С одной стороны, хромота – это признак «плохой половины» (как говорят карелы), то есть черта или лешего. Но с другой, по христианской традиции, все увечные (и физически, и душевно) считались особо любимыми Спасителем.
Образ, схожий с Vierissän akka, встречается в фольклоре лапландцев. Это Sild (Seld), хозяин проруби. Во время Святок, в «вечера Силда» («Sildin iltoina») его предсказания «слушали» на перекрестке трех дорог и «смотрели» на краю проруби. Он мог дать богатство человеку, но мог и убить, если «слушающий» пускался бежать от страха [14; 558].
Таким образом, Крещенская баба персонифицирует собой наиболее сакральные промежутки как годового (Святки), так и суточного (полночь) цикла. Она является всесильной вещуньей, предсказательницей человеческой судьбы, а иногда, в самые поворотные моменты, и ее вершительни-цей. Vierissän akka являет своим появлением вертикальность мифопоэтического мира, она представительница чаще нижнего, иногда верхнего, но всегда «иного» мира. Она посредник между человеком и «ее» миром, и их магическая встреча происходит только в самых сакральных местах (у проруби или на перекрестке).
Список литературы Крещенская баба: к вопросу о семантике и пространственно-временных аспектах образа (по материалам северно-карельской мифологической прозы)
- Винокурова И.Ю. Животные в традиционном культе вепсов. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2006. 448 с.
- Георгиевский А. Народная демонология//Олонецкий сборник: Материалы для истории, географии, статистики и этнографии Олонецкого края. Петрозаводск: Губ. типография, 1902.
- Конкка А.П. Святки в Панозеро, или Крещенская свинья//Панозеро. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2003. С. 130-153.
- Конкка А.П. Холодный башмак (kylmäkenkä)//Панозеро. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2003.
- Криничная Н.А. Домашний дух и святочные гадания. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 1993. 29 с.
- Криничная Н.А. Русская мифология: мир образов фольклора. М.: Академический проект: Гаудеамус, 2005. 1006 с.
- Лавонен Н.А. Карельская народная загадка. Л.: Наука, 1977. 134 с.
- Мансикка В.П. Из финской этнографической литературы. Петрозаводск: Тип. В. Д. Смирнова, 1917.
- Мансикка В.И. Религия восточных славян. М.: ИМЛИ РАН, 2005. 368 с.
- Образцы карельской речи/Сост. В. Д. Рягоев. Л.: Наука, 1980. 384 с.
- Ремшуева Р.П. Карельская народная баллада и «Кантелетар» Элиаса Леннрота. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 1993. 111 с.
- Топоров В.Н. Праздник//Мифы народов мира. Т. 2. М.: Советская энциклопедия, 1988. С. 329-331.
- Хаберкирова Х.А. Природа и характер некоторых мифологических персонажей в эпосе и бытовой культуре черкесов//Этнографическое обозрение. 2005. № 5. С. 89-95.
- Itkonen E. Lappalainen kansan runous. Suomen kirjallisuus. I. Keuruu, 1963.
- Jurinoja V. Akonlahden arkea ja juhla. Turku, 1965.
- Virtaranta P. Vienan kansa muistelee. Helsinki, 1958.