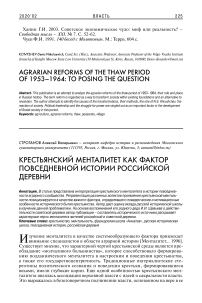Крестьянский менталитет как фактор повседневной истории российской деревни
Автор: Строганов Алексей Валерьевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 2, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье представлена интерпретация крестьянского менталитета в истории повседневности аграрного сообщества. Репрезентация различных аспектов проявления крестьянской ментальности позиционируется в качестве важного фактора, определявшего поведенческие и мотивационные особенности исторического бытия крестьянства. Автор дает оценку вклада русской исторической школы в изучении данной проблематики. На основе воспоминаний его родного деда И.И. Щевьева о действительности советской деревни автор публикации - составитель исторического источника раскрывает характерные черты менталитета жителей российской и советской деревни.
Крестьянство, ментальность, французская школа "анналов", русская историческая школа, повседневная история, российская деревня
Короткий адрес: https://sciup.org/170171121
IDR: 170171121 | DOI: 10.31171/vlast.v28i2.7161
Текст научной статьи Крестьянский менталитет как фактор повседневной истории российской деревни
И зучение менталитета в качестве системообразующего фактора привлекает внимание специалистов в области аграрной истории [Менталитет… 1996].
Существует мнение, что характерной чертой крестьянской среды является преобладание «молчаливого большинства», которое способствовало формированию подданнического менталитета в настроении и поведении крестьянства, а также его государствоцентричность. Традиционные патерналистские стереотипы политического сознания и поведения крестьян, формировавшиеся веками, имели глубокие корни. Еще одной особенностью крестьянского менталитета являлась ассоциация верховной власти с идеей о сакральности власти. Это выражалось в безоговорочном подчинении власти, основанном на вере в ее всесилие. Поэтому в поведении крестьян традиционно проявлялось пренебрежение правом на политическую власть.
Актуальность исследования данной проблематики имеет важное значение в контексте выяснения соответствия российской матрицы современным модернизационным процессам [Лапшин 2017: 181]. Предмет современных исследований историков связан с индивидом, человеком в исторически конкретных условиях. При этом меняется не содержание исторического процесса, а интерпретации тех или иных его проявлений, что значительно обогащает его в глазах современников, повышает их интерес к различным сторонам прошлой жизни человечества. Духовно-нравственные и моральные аспекты (гуманистические, религиозные, культурные и др.), историческое сознание рассматриваются как важные части содержания мирового исторического процесса. В этой связи следует подчеркнуть, что смена парадигм (при всей относительности данного термина) в исторической науке выступает как явление, связанное с необходимостью качественного обновления научного знания. Историческая репрезентация новых тем и проблем значительно расширяет представления о материальной, культурной и духовной жизни народов в разные исторические эпохи и в разных условиях [Васильев 2012: 262].
Нередко утверждают, что термин «менталитет» появился благодаря деятельности представителей знаменитой французской исторической школы «Анналов», сложившейся в 30–40-е гг. ХХ в. Им «анналисты» обозначали картину мира, мыслительные установки людей прошлого, модель восприятия действительности, присущую каждому обществу, каждой культуре. В результате было положено начало новой отрасли науки – исторической психологии.
Однако русская историческая школа в данном направлении опередила представителей школы «Анналов». Н.И. Кареев предвосхитил изучение ментальности «анналистами» исследованием психического состояния личности в условиях общественной среды и формирующейся на этой основе культуры. А.С. Лаппо-Данилевский обосновал принципы чужой одушевленности, единства чужого сознания, понимания исторического источника как реализованного продукта человеческой психики. Общественное сознание, которое представители школы «Анналов» изучали как ментальность, уже было известно под названием общественной психологии. Интерес к вопросам общественной психологии в объяснении исторического процесса был проявлен прежде С.М. Соловьевым в размышлениях о «природе племени», затем продолжен В.О. Ключевским в русле концептов исторических сил, исторических элементов, исторического движения, исторической передачи, народно-психологического обоснования крупных исторических явлений (таких, как церковный раскол). Если «анналисты» не допускали в предмет исследования мотивы поведения людей, то в теории истории Ключевского в качестве важных факторов исторического развития рассматривались мотивационные особенности людей, социальных групп, общества, что нашло отражение, в частности, в блестящих социально-психологических характеристиках ключевых фигур русской истории. Русский ученый установил взаимосвязь и зависимость исторического мышления от конкретных исторических условий и особенностей общественного развития. Таким образом, школа «Анналов» как наука о человеке, предмет изучения которой – сознание людей, выступает последователем русской исторической школы [Васильев 2012: 265-266].
Известный в XIX в. публицист-народник Александр Николаевич Энгельгардт свидетельствовал: «…редко можно встретить крестьянина, а даже дворника, целовальника, который бы, например, понимал, что такое гласный и какая разница между гласным и присяжным заседателем. Не найдете крестьянина, который бы не боялся идти свидетелем в суд и был бы уверен, что председатель суда не может его выпороть… Крестьянам все равно, кого выбирать в гласные – каждый желает только, чтобы его не выбрали» [Энгельгардт 1999: 120-121]. Мужики выбирали гласного от сельского сословия, потому что приказано, и умоляли: «Отпустите вы нас только поскорее, потому что у нас покос, уборка хлеба» [Энгельгардт 1999: 43]. Из сказанного можно сделать заключение о глубокой отчужденности крестьян в отношениях с «начальством», с властью. Отчуждение власти и населения непосредственно проявилось во взаимоотношениях крестьянства и государства. Крестьянство никогда не ассоциировало себя в качестве субъекта реальной политики, добровольно отдавая данную функцию государству. Менталитет крестьянина был таков, что за провинность, главным образом воровство, ответчику следовало «намылить шею» и взыскать с него убыток; но ни в какие времена не считалось правильным обращаться в инстанции по подобным делам.
Однако с началом советской истории ХХ в. на историческую сцену выступил новый крестьянин – крестьянин эпохи революции. Хотя в основной своей массе крестьянин остался все тем же: консервативным, отчужденным от любых внешних процессов, ориентированным на внутренний мир своей родной деревни, из которой он если и выезжал, то разве только на отхожие промыслы.
Отказываясь от права принимать участие в политической жизни своей волости и уезда, крестьянин стремился жить по своей «правде», которая у него идеализировалась и понималась как справедливость, стремление к всеобщему равенству, а также характеризовалась неразвитостью идеала свободы. Крестьянская общинность основывалась на уравнительном принципе социальной справедливости и антисобственнических настроениях.
На рубеже 1920–1930-х гг. по соседству с домом родителей моего деда Ивана Ивановича Щевьева жила семья Коротковых. Куры Щевьевых бегали по двору и иногда попадали на соседский двор. По воспоминаниям деда, «как какая курица туда попадет, она [хозяйка] их подманит и ловит. И все, сожрет. И так раз, два… Поймал ее отец один раз. Кто-то зашел к ним, а та хозяйка поймала курицу и в сенях под корзиной посадила» [Щевьев 2018: 73]. Рассказывали, как воров по деревне водили: хомут надевали на него и по всей деревне везли, позорили. И в данной истории следовало на воровку хомут надеть и по деревне ее провести. Но Щевьев ничего не стал делать. А вот однажды в амбар к кому-то залезли, утащили там все. И тогда собрались мужики, соседи все. И маленький Иван за ними. Мальчишкой совсем еще был. И мужики целой толпой пошли по следу лошади в поле, к той самой хозяйке. Стали там все обыскивать. И во дворе, под большой кормовой кошелкой, все нашли. Без властей, без милиционера, мужики сами все решали, сами разобрались с ворами [Щевьев 2018: 73].
Случались проявления крестьянского самосуда. Один мужик взял что-то в колхозе, председатель колхоза поймал его – и в район, в суд, сажать его. А когда он его в район потащил, мужик и говорит ему: «Ты учти, у меня три сына». Но его посадили. Прошло немного времени, а «сын его один, пацан, лет тринадцать ему было, нашел такой прут металлический, отточил его, как кинжал, и идет по деревне, как с костылем. Поравнялся с домом председателя, видит, сидит тот у окна, ест. Он подошел, и через стекло как дал этим кинжалом – и заколол его. Повернулся и дальше пошел. До речки дошел и бросил в нее прут. Его же сразу нашли, он, когда шел, кровью капал. Схватили его и всю оставшуюся семью и угнали куда-то» [Щевьев 2018: 73].
Как видим, стереотип русского крестьянина проявлялся в правовом нигилизме, в ментальной установке судить не по закону, а по справедливости. Большинство крестьян отказывались в открытую восставать против власти из-за боязни мести карательной мощи государства за участие в восстании. Население на собственном опыте уже познало карательную силу государственной военной и административной системы. Решившийся на восстание осознавал, какие последствия ожидают его самого и его семью. За примером обратимся на десятилетие назад, в Рязанскую губернию 1921 г., когда родители еще не родившегося Ивана стали свидетелями отголосков Тамбовского восстания, знаменитой антоновщины, полыхавшей тогда в соседней Тамбовской губернии.
Оно коснулось и деревни, в которой проживали родители моего деда. В воспоминаниях деда описан следующий случай: «Был тогда в деревне коммунист один, звали его Елизаром. Мужики в деревне поднялись и ловить его начали. А тот вскочил на лошадь и поскакал по огородам. Скакал он через один из огородов, а там мужик шел с вязанкой соломы. Он взял эту солому – и под коня кинул. И все, Елизар свалился. Мужики подбежали и вилами его стали колоть. Он выжил. Его потом отвезли в район и врачам сказали: “Не выживет, вас самих расстреляем!” Живой он остался и потом еще в Рязани руководил, стал высоким человеком в партии… А крестьяне эти собрались, мать рассказывала, слух прошел, что там свалка идет в районе. Так мужики от плуга два лемеха связали и через плечо надели, один спереди, другой сзади, как бронь. А Лисевы, через дорогу семья жила, в три дома влево, и еще там несколько мужиков стали пилить телефонные столбы и несколько штук свалили. И тут с района солдаты пришли. Сколько их там было солдат, может быть, рота. Крестьяне разбежались. Они: “Кто пилил? Кто закоперщик?” Их собрали, взяли в район и там расстреляли» [Щевьев 2018: 73].
Таким образом, решавшиеся на восстание осознавали, какие последствия ожидали как их самих, так и членов их семей. Да и слухи об истреблении целых деревень карательными войсками М.Н. Тухачевского не могли не доходить до расположенного в сотне километров от эпицентра восстания села Коровка. Все эти события сильно запугали крестьянское население села, о чем свидетельствует следующий факт. У отца моего деда большая семья была. Соответственно, у деда моего было три брата. Зажиточно они жили. И прадед его Иван выстроил каждому из сыновей по дому на одной улице. Так они, четыре дома в ряд, и стояли по одной улице. И во время коллективизации стали раскулачивать дом только одного из братьев: семью выгнали на улицу, а кирпичный дом по кирпичикам разобрали. Интересна реакция остальных трех братьев: они стояли и молча наблюдали за происходящим, не смея открыто вмешаться в процесс выселения и защитить брата. До такой степени все уже были напуганы [Щевьев 2018: 73].
Можно сделать вывод, что крестьянин по своему складу ума привык с прагматичностью подходить к любому делу. Он понимал, что, решаясь на отчаянный шаг – восстать против действующей власти, он не оставлял себе никакой обратной дороги, прекрасно осознавал последствия выступления в случае его подавления не только для себя, но и для членов своей семьи. Вместе с тем можно выделить определенную группу крестьян, готовых с оружием в руках отстаивать свои права и то, что в их глазах казалось справедливым.
Изучение крестьянского менталитета в советской истории показало, что в условиях строительства нового общества был пропущен важнейший этап формирования цивилизованного работника через массовые формы кооперации, постепенное и последовательное подтягивание культурных и духовных предпосылок. В результате в период коллективизации за рекордными итогами и показателями в тени остались негативные проявления и беды, ею же порожденные: созданные в форсированном режиме посредством административно-чрезвы- чайных мер производственные формы кооперации в социально-культурном и духовном плане не имели под собой надежной основы [Васильев 1992: 122].
Великая Отечественная война выявила удивительные свидетельства проявления крестьянского менталитета. Приведем пример. Самая молодая партизанка Карельского фронта Наталья Сидорова (1922 г. рождения) всю войну была медсестрой взвода разведки партизанского отряда. А судьба у молоденькой девушки оказалась непростой: в 1938 г. арестовали всех мужиков ее карельского хутора. А отца приговором особой «тройки» НКВД осудили (как позднее оказалось, безвинно) и расстреляли. Дочь репрессированного крестьянина показала себя в партизанском отряде героически: она была награждена орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги» [Васильев 2018: 47]. Как понять горячее желание сражаться с врагом, проявленное дочерью раскулаченного и расстрелянного отца? Подобных историй было немало. Данный исторический сюжет связан, во-первых, с ментальными особенностями поведения человека в чрезвычайных (военных) условиях, во-вторых, с женскими аспектами ментальности и бытия крестьянства.
Анализ повседневной истории российской деревни позволяет дать репрезентацию разных аспектов проявления крестьянской ментальности в качестве фактора, определявшего поведенческие, мотивационные и др. особенности многообразного исторического бытия крестьянства, раскрыть механизмы развития ментальных процессов.
Список литературы Крестьянский менталитет как фактор повседневной истории российской деревни
- Васильев Ю.А. 1992. Деревня на распутье. К возрождению села: формирование условий жизнедеятельности и культуры быта. М.: Молодая гвардия. 146 с
- Васильев Ю.А. 2012. Теория и методы в русской исторической школе: Теория исторического знания, теория исторического процесса, психологическое направление. М.: КД "ЛИБРОКОМ". 272 с
- Васильев Ю.А. 2018. Юрий Андропов. На пути к власти. М.: Вече. 416 с
- Лапшин А.О. 2017. Еще раз о власти. - Власть. № 12. С. 180-185
- Менталитет и аграрное развитие России (XIX-XX вв.): материалы международной конференции. 1990. М.: РОССПЭН. 440 с
- Щевьев И.И. 2018. Молодость Ивана. Беседы с дедом (сост. А.В. Строганов). М.: Книга - Мемуар. 178 с
- Энгельгардт А.Н. 1999. Из деревни. 12 писем 1872-1887. СПб: Наука. 725 с