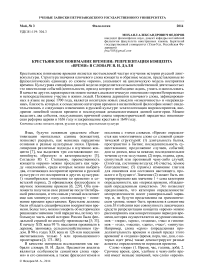Крестьянское понимание времени: репрезентация концепта «время» в словаре В.И. Даля
Автор: Федоров Михаил александровиЧ.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 3 (140), 2014 года.
Бесплатный доступ
Крестьянское понимание времени является неотъемлемой частью изучения истории русской лингвокультуры. Структура значения ключевого слова концепта и образные модели, представленные во фразеологических единицах со словом «время», указывают на циклическую модель восприятия времени. Культурная специфика данной модели определяется сельскохозяйственной деятельностью: это вместилище событий/деятельности, приход которого необходимо ждать, узнать и использовать. В качестве других характеристик можно назвать аксиологическую оппозицию «время/безвременье» и непосредственное участие в жизни людей. Половина дериватов ключевого слова, зафиксированных в языке не ранее 1700 года, является носителем новых смыслов «изменчивость» и «пережидание», близость которых к осмыслению категории времени в византийской философии может свидетельствовать о следующих изменениях в русской культуре: эсхатологизация мировосприятия, внедрение линейной модели времени и последующая дезаксиологизация данной категории. Можно выделить два события, послуживших причиной смены мировоззренческой парадигмы: никонианская реформа церкви в 1656 году и закрепощение крестьян в 1649 году.
Концепт, время, русская культура, крестьянская культура
Короткий адрес: https://sciup.org/14750646
IDR: 14750646 | УДК: 81-119:
Текст научной статьи Крестьянское понимание времени: репрезентация концепта «время» в словаре В.И. Даля
Язык, будучи основным средством объективизации ментальных единиц (концептов), позволяет раскрыть, как менялись парадигмы сознания в разные культурные эпохи. Проанализировав различные подходы к изучению концепта [7], мы выделяем три составляющие: понятийную, образную и категориальную [3]. Согласно Ю. С. Степанову, преемственность концепта «время» можно проследить как череду «наслоений», среди которых можно выбрать два, отличающих восприятие времени в русской культуре от его восприятия в других культурах: 1) «панибратское отношение ко времени» в советский период, 2) официальное философское и научное понимание времени [6; 229]. Оба компонента получили свое развитие после Октябрьской революции, и тем самым ученый исключает еще как минимум одну составляющую – понимание времени крестьянами. Крестьяне должны были обладать специфическим восприятием времени. Более того, можно говорить об исторически решающем значении этой парадигмы, потому что большую часть своей истории Россия была феодальной страной по способу производства [5; 33]. К началу XIX века 95 % населения проживали в деревне, занимаясь сельскохозяйственным трудом. В 90-х годах XIX века из 126 млн населения насчитывалось только 5 млн промышленного пролетариата [2; 173–185].
В качестве материала исследования мы выбрали словарь В. И. Даля. Предметом анализа являются особенности семантики слова «время» и его синонимов, а также фразеологизмов и пословиц с этими словами. «Время» определяется как многозначное слово со сложной семантической структурой: (1) длительность бытия, пространство в бытии; последовательность существования; продолжение случаев, событий; дни за днями, века за веками; последовательное течение суток за сутками; (2) пора, година, срок, спопутный или противный чему-либо случай; (3) погода, состояние воздуха; (4) счастье, земное благоденствие; (5) (грамм.) изменение глагола для означения или состояния настоящего, прошлого и будущего1. Значение (2) может быть интерпретировано как значение 1 + сема категории определенности, как «период времени, обладающий определенным качеством». Это позволяет предположить, что категория определенности/ неопределенности носит универсальный характер, и, не будучи представлена на грамматическом уровне, может быть проявлена в семантике слов. В этой связи всю совокупность лексических средств репрезентации концепта «время» можно рассматривать как конкретизацию периодов времени, которая осуществляется на уровне синонимов – «пора», «срок», «година», «час» и гипонимов – «год», «месяц», «день», «час»2, «минута». Например, слова «срок» (определенная продолжительность времени и самый предел этого времени)3 и «година» (время, пора, час, дни, о которых идет речь) также демонстрируют разные аспекты определенности периодов времени.
Слово «пора» (1. Время, час, година, добá; 2. Срочное время, срок, удобное к чему-либо время) имеет меньше значений, чем слово «время».
Их противопоставление можно представить как противопоставление смыслов «любое хорошее время» / «время, пригодное для какой-либо деятельности»: Всякой вещи время, всякому делу пора; Не время дорого - пора; То было время, а ныне пора 4 . Еще один синоним - слово «час» (1. Время, година, пора; 2. Досуг, свобода от дел; 3. Пора, срок, удобное к чему-либо время) также может противопоставляться словам «время» и «пора» как синоним с функцией замещения: Пению время, а молитве час; Часом с квасом, порою с водою. Третье значение могло появиться в результате метонимического переноса благоприятного времени на «хорошую погоду», что связано, например, с ведущей ролью земледелия в жизни крестьян. Четвертое значение можно рассматривать либо как следствие метонимического переноса – ассоциация «благоприятного времени» и следующего за ним «благосостояния», либо как пример метафорического переноса – сравнение «благосостояния» с «хорошей погодой». Эти два значения указывают на периоды, для которых свойственна повторяемость – смена времен года и чередования счастья и горя. Считаем, что здесь отражается циклическая модель времени, представленная также во внутренней форме лексемы «время», восходящей к индоевропейскому *uertmen, от корня *uer-t со значением «вращать, вращаться», что означает «круговорот» [10]. Значения 2, 3 и 4 подчеркивают, что в структуре значения времени присутствует только положительная коннотация. Это подтверждается наличием антонима «безвременье» со значениями: (1) непогода, ненастье, (2) невзгодье, бедовое время, случай; злыдни; беда, несчастье, горе, неудача5. Эти два слова противопоставлены не только по значению, но и в поговорках: Время красит, безвременье старит; Было время, осталось одно безвременье.
Мы выделяем следующие метафоры, структурирующие концепт «время»: время – движущийся объект, время – вместилище и время – личность. Исходной представляется первая, потому что базовой характеристикой времени является движение/изменение. Согласно этой метафоре, время может «прийти» и «уйти», может «лететь» или «течь». Интересно, что со словом «время» глагол «течь» означает «идти своим чередом, продолжаться», тогда как первые два его значения ((1) стремиться, литься по наклону; (2) нестись, бежать, идти быстро)6 указывают на стремительность движения. Предполагаем, что фраза «время течет» изначально означала быструю смену событий и позже была переосмыслена как означающая размеренный ход времени.
Движение времени можно рассматривать как смену периодов земледельческой практики. Выделим следующие характеристики «движения» времени: 1) приход времени не зависит от воли человека - Время на дудку не идет; 2) приход времени является определяющим для каких- либо действий - Придет время, будет и пора; 3) отдельные периоды времени связаны с различными видами деятельности - Время на время не приходит; 4) стремительное движение времени - Время летит; 5) время желаемо, но его «прихода» нужно ждать - Придет время, будет и нам черед. Очевидно, что движущийся объект, имеющий свои границы, может быть определен в терминах пространства: Время перед нами, время за нами, а у нас его нет. Это позволяет предложить другую метафору, сопутствующую первой: «время – это объект, имеющий пространственную ориентацию». Как отмечает Ю. С. Степанов, в русском языке отразился переходный этап восприятия времени относительно человека. Так, прилагательные «предънии» и «задънии» имеют значения: 1) будущий и 2) прошедший. Их слияние отражает цикличность времени [6; 126–129].
Другой сопутствующей метафорой можно назвать «время – это объект восприятия и манипуляции»: период времени, подходящий для определенной деятельности, нужно уметь найти, узнать, выбрать: Знай время и место; Бедный времени не ищет; Не гребень холите, а время . Очевидно, «знанию» времени придавалось большое значение, поскольку земледельческая практика зависит от времени года и погодных условий. Метафора «время – вместилище» акцентирует отграниченность периодов времени. Так, в примере Сила во времени и доля во времени живет, бездолье в безвременье подчеркиваются условия, подходящие для определенной деятельности и тем самым способствующие росту благосостояния, а в примере Будешь во времени, и нас помяни имеется указание на период благоденствия, находясь в котором человек может помочь другим. Во фразеологизмах, репрезентирующих метафору «время – личность», время предстает как строгий, но справедливый участник жизни людей, который учит и облагораживает человека: Время разум дает; Не человек гонит, а время . Подчеркивается категоричность и бескомпромиссность времени: Время деньгу дает, а на деньги время не купишь.
Ожидание времени, оторванность одного периода от другого, возможность того, что два периода могут быть отделены друг от друга безвременьем, очевидно, отражены в словаре Даля также в семантике некоторых свободных словосочетаний, которые на современном этапе зафиксированы как фразеологизмы: до поры до времени (временно, пока; до определенного момента, срока, до какого-то случая); время от времени (иногда, нерегулярно, через какие-то промежутки времени) [9]. Подтверждение тому, что время ассоциируется с ожиданием, можно увидеть в том, что ряд глаголов, образованных от существительных – репрезентантов концепта «время», имеют значение «ждать»: временить, годить, отсрочить, почасить.
С точки зрения категориальной составляющей концепт «время» в словаре Даля представлен существительным (19 единиц), прилагательным (14), глаголом (3), наречием (2)7. Таким образом, доминантными являются именные характеристики. Все слова с корнем «врем» используют только первое и второе значения – «длительность бытия, пространство в бытии...» и «спопутный срок...», тогда как значения третье «погода, состояние воздуха» и четвертое «счастье, земное благоденствие» оказываются непродуктивными. Более того, как показало исследование русского национального корпуса8, лексико-семантические варианты со значениями 3 и 4 не используются в период с 1700 по 1899 год и, по-видимому, сохраняются только в пословицах, отражая более древний период развития лингвокультуры.
Слова, репрезентирующие концепт «время» в словаре, семантически можно разбить на четыре группы. Группы I и II сгруппированы вокруг первого и второго значения слова «время», а две другие составлены из слов, в семантике которых ключевыми являются смыслы, новые для того периода. Так, для группы III ключевым смыслом является «изменчивость», что проявляется в значении следующих слов: временность (состояние всего преходящего, временного), временчивость (изменчивость), врéменный (непостоянный, бывающий иногда, временем), временнóй (преходящий, кратковременный, сделанный на время), времéнчивый (изменчивый, непостоянный).
Для слов группы IV общим смыслом является «пережидание»: временить (1. Медлить, отлагать, откладывать дело; 2. Изменять вид свой издали, являться зрителю в обманчивом виде, от времени, погоды, преломления лучей), времени-тель, временительница (человек медлительный, нерешительный). В эту же группу необходимо отнести слова «временщик» и «временщица» (нечаянно достигший(ая) почестей и знатности), которые в силу своей отрицательной коннотации могли символизировать времена лихолетья, которые нужно переждать.
Большая часть репрезентантов концепта «время» не отражена в этимологическом словаре [10], и для установления времени появления этих значений в языке мы обратились к национальному корпусу русского языка. Все слова, составляющие группу III и IV, появились не раньше XVIII века. Единственное слово, данные относительно которого трудно определить, это слово «врéменный», противопоставленное слову «времéнный» (относящийся ко времени), которое мы отнесли к группе I. Поскольку примеры текстов в исследуемом корпусе не содержат знаков ударения, то примеры, найденные в среднерусском корпусе (XV–XVII века), могут относиться как к одному слову, так и к другому. Разграничение этих двух слов требует отдельного анализа.
С большой долей уверенности мы можем предполагать, что смыслы «изменчивость» и «пережидание» появились в начале XVIII века.
Таким образом, лингвистический материал словаря Даля отражает переходный период в лингвокультуре русского народа, в котором представлены две конкурирующие модели: 1) циклическое время, связанное с периодами какой-либо деятельности; 2) линейное время как период земной «юдоли скорбей».
Первая модель, представленная в семантике ключевого слова и в пословицах, по свидетельству Ю. С. Степанова, выступает обобщенной и концептуализированной в архаических аграрных обществах [6; 118]. Характерной чертой русского варианта циклического времени является наличие в структуре концепта «время» положительной коннотации и семы категории определенности. Другой важной характеристикой является его отъединенность – не всякий отрезок бытия назывался временем, а только тот, который соответствовал определенным критериям: он давал возможность работать и жить. Вторая модель представлена в семантике примерно половины дериватов лексемы «время», появившихся не более чем за полтора века до издания словаря Даля. Интересным представляется тот факт, что появление таких смыслов, как «изменчивость» и «пережидание», хронологически следует за никонианской реформой Православной церкви: переход к новогреческой богослужебной практике, более чем вероятно, сопровождался ориентацией на византийскую философию, в которой время, по свидетельству С. Астапова, понималось как объективное свойство материального мира [1; 86–96]. Косвенным свидетельством может быть то, что новые смыслы в семантике репрезентантов концепта «время» согласуются с православным мироосмыслением, которое В . В. Зеньковский охарактеризовал как устремленность к вечности и вследствие этого некоторое потускнение красок этого мира [4; 115]. Это имеет особенное отношение к словам группы III: появление семы «изменчивость» в ряде репрезентантов концепта можно рассматривать как трансформацию содержания концепта от установленного порядка вещей к фантомной реальности, события которой имеют второстепенное значение в сравнении с красотой мира, обещанного после смерти. В качестве другой причины можно назвать то, что жизнь крестьян, бывшая и без того трудной, могла стать невыносимой после отмены Юрьева дня и окончательного их закрепощения Соборным уложением в 1649 году. На этом фоне русское языковое сознание могло стать благоприятной почвой для мыслей о временности бытия и отношении к жизни как «неизбежному времени, полному страданий», которое нужно перетерпеть. Кроме того, это могло быть причиной перемещения фокуса восприятия времени в будущее как идеала, к которому нужно стремиться.
Таким образом, первую модель можно рассматривать как исконное представление времени крестьянами. Не противореча монотеистиче- ским убеждениям и соответствуя потребностям земледельческой практики, такая модель могла существовать и до, и после принятия христианства на Руси, тогда как появление второй модели может быть свидетельством описанных выше культурных изменений.
Список литературы Крестьянское понимание времени: репрезентация концепта «время» в словаре В.И. Даля
- Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. М.: Рус. яз., 1998. С. 260.
- Первое значение слова «час» относит его к синонимам времени, тогда как второе -к гипонимам.
- Здесь и далее в скобках приводится определение слова согласно словарю В.И. Даля.
- Здесь и далее курсивом выделены пословицы из словаря В.И. Даля.
- Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. С. 59.
- Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 4. С. 404.
- В кусте слова «время» указано только 15 слов, а остальные размещены по всему словарю.
- Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ruscorpora.ru/
- Астапов С. Время и вечность в восточной патристике//Логос. 2004. № 5. С. 84-96.
- Всемирная история: учебник для вузов/Под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. М.: Культура и спорт, 2000. 263 с.
- Воркачев С.Г. Концепт счастья в русском языковом сознании: опыт лингвокультурологического сознания. Краснодар: Изд-во Кубан. гос. техн. ун-та, 2002. 142 с.
- Зеньковский В.В. Идея православной культуры//Человек. 2004. № 5. С. 110-128.
- Каган М.С. Введение в историю мировой культуры. Книга вторая. СПб.: Петрополис, 2001. 320 с.
- Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. Изд. 3-е, испр. и доп. М.: Академический проект, 2004. 992 с.
- Федоров М.А. Аспектуальность как способ преодоления множественности определений термина “концепт”//Вестник Бурятского государственного университета (Романо-германская филология). 2013. № 11. С. 51-57.
- Федоров М.А. Образная составляющая концепта TIME: диахронический аспект. Улан-Удэ, 2013. 160 с.
- Фразеологический словарь русского языка/Сост. А.Н. Тихонов, А.Г. Ломов, Л.А. Ломова. М.: Высш. шк., 2003. 336 с.
- Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. М.: Рус. яз., 1999. 653 с.