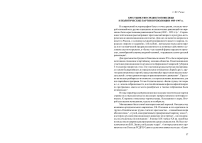Крестьянство Среднего Поволжья и политические партии в революции 1905-1907 гг.
Автор: Разин Сергей Юрьевич
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 18, 2008 года.
Бесплатный доступ
В современной историографии получила распространение точка зрения, согласно которой «основой всех других социальных и политических революций того времени» была «крестьянская революция в России (1902 - 1922 гг.)» Для крестьянства Среднего Поволжья в начале XX в. было характерно негативное отношение к партийному делению общества. В годы первой русской революции все ведущие политические партии страны, по сути, разделились на два «лагеря»: «прокрестьянские» и «антикрестьянские». К первому относились черносотенцы, большевики и эсеры. Второй составляли меньшевики, кадеты и октябристы. Взаимодействие крестьянства и партий происходило в рамках алгоритма «соответствия». При этом шансов на победу у либералов не было, что и подтвердили результаты голосования
"крестьянская революция", среднее поволжье, политические партии с, аграрные программы, "черный передел", апологетика сильной власти
Короткий адрес: https://sciup.org/14913457
IDR: 14913457
Текст научной статьи Крестьянство Среднего Поволжья и политические партии в революции 1905-1907 гг.
В современной историографии бытует точка зрения, согласно которой «основой всех других социальных и политических революций того врe-мeни» была «крестьянская революция в России (1902 – 1922 гг.)»1 . Сторонники этой позиции рассматривают крестьянский вопрос в культурно-историческом и цивилизационном контекстах. Для них он является вопросом о власти в России, о «социокультурной разорванности власти и народа, городских «верхов» и «деревни», «об особой... ментальности русского народа и eго исторической предрасположенности к активным действиям в условиях смутного врeмeни, к «бунту» как главной форме народного протеста», своеобразной социокультурной основой, «гордиевым узлом» русской революции2 .
Для крестьянства Среднего Поволжья в начале XX в. было характерно негативное отношение к партийному делению общества. В воспоминаниях участника революционного кружка сeла Царевщина Самарской губернии Г. Солдатова говорится о том, что участники кружка всячески подчеркивали «свою беспартийность и отрицательное отношение к борьбе друг с другом революционных партий, представлявшейся крестьянам весьма нежелательной с точки зрения интересов революционного движения»3 . Крестьян не желали разбираться в тонкостях и хитросплетениях непонятных для них партийных программ. Тот же Солдатов писал: «Были случаи, что эсеры и с.-д. делали собрания вместе, и когда обосновывали философский вопрос по программам, масса не могла разобраться и такими собраниями была недовольна»4.
В годы первой русской революции все ведущие политические партии страны по сути разделились на два лагеря: прокрестьянские и антикресть-янские. К пeрвому относились черносотенцы, большевики и эсеры. Второй составляли меньшевики, кадеты и октябристы.
Меньшевики были самой антикрестьянской партией. Находясь под влиянием ортодоксального марксизма, Г.B. Плeханов и его соратники по группе «Освобождение труда» считали: крестьянство – «главнейшая опора абсолютизма»5 , «тупой, консервативный, приверженный царизму класс»6 , в котором «русское революционное движение не встречает... ни поддержки, ни сочувствия, ни понимания»7 . В конце XIX–начале XX вв. подобные взгляды имели широкое распространение среди социалистов. Не были исключением ни В.И. Ленин, ни будущие эсеры8 . «Антикрестьянство» проявилось и на II съезде РСДРП. Один из делегатов заявил на съезде: «Един- ственный революционный класс – пролетариат, остальные – так себе: с боку припека... Я против того, чтобы их поддерживать»9 . По мнению Т. Шанина, принятый на съезде вариант аграрной программы, предусматривавший возвращение крестьянам «отрезков», был направлен «скорее на то, чтобы нейтрализовать крестьян, чем на то, чтобы попытаться... вовлечь их в грядущую революцию»10 .
Меньшевики оставались верными этим взглядам и в ходе революции 1905–1907 гг., и после нее. Предельно четко позицию своей фракции выразил Р. Абрамович: «Городская буржуазия ближе нам, чем стихийно-революционное темное крестьянство»11 . Меньшевики выдвинули проект «муниципализации», согласно которому помещичьи земли должны были перейти в распоряжение муниципалитетов, а крестьянам предоставлялось лишь право арендовать землю. Они выступили с критикой ленинских идей национализации земли, революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства и левого блока, которые называли «реакционными по существу, вопреки своей революционной внешности»12 .
Весьма своеобразную по отношению к крестьянству позицию занимали кадеты и октябристы. В качестве варианта решения аграрного вопроса они предложили далекую от принципов классического либерализма теоретическую конструкцию, которая включала следующее: община как социальный институт является анахронизмом, тормозом прогрессивного развития страны; негативное отношение к идее передачи всей земли крестьянам и признание необходимости сохранения помещичьего землевладения; признание необходимости частичного наделения крестьян землей путем выкупа из земельного фонда, специально созданного для этих целей за счет отчуждения части государственных удельных, кабинетских, монастырских и частных земель.
Для крестьянства справедливым являлся только один вариант решения земельного вопроса – «черный передел». Вся русская деревня была твердо убеждена в том, что «земля – дар природы, а частная собственность на землю – безнравственна»13 . В приговорах поволжских крестьян повторяется одна и та же мысль: «Отобрание всех частновладельческих, казенных, удельных, кабинетских, помещичьих и монастырских земель в неотъемлемое достояние государства и отдание в уравнительное землепользование всем тем, кто будет обрабатывать силами своей семьи»14 . Крестьянское отношение к либеральным рецептам решения аграрного вопроса было однозначным: «О выкупе земли крестьянами не может быть и речи. Помещики владеют землей, много раз оплаченной народными трудами»15 .
Ключевой для либерализма является идея свободы в рамках закона. Иное понимание свободы было характерно для деревенских жителей. Подтверждением этого является реакция крестьянства на Манифест 17 октября
1905 г., который наряду с проигранной Русско-японской войной (1904–1905 гг.) и слухами о погромах в городах в глазах крестьян стал проявлением слабости власти, а потому послужил катализатором крестьянского движения. Период октября–ноября 1905 г. стал одним из двух пиков «общинной революции» не только в Поволжье, но и в целом по стране16 .
Своеобразным символом веры для русских либералов были конституция и установление конституционной формы правления в России. Для русского крестьянина не конституция, а царь олицетворял земной порядок. Крестьяне не допускали возможности существования в стране никакого другого политического строя, кроме самодержавия. О стойкости самодержавного идеала в крестьянском сознании говорит тот факт, что до сих пор не найдено ни одного документа, в котором содержались бы призывы крестьян свергнуть самодержавие. Напротив, источники содержат немало свидетельств негативного отношения к тем, кто выступал против самодержавия. Так, помощник начальника Самарского губернского жандармского управления по Бугурусланскому и Бугульминскому уездам в донесении своему начальнику от 16 марта 1905 г. писал: «Настроение крестьян нехорошее; среди них ходят разные толки... что скоро будут бить студентов и вообще всех образованных за то, чтобы они не бунтовали бы против веры христианской и не шли против царя»17 . Либералы и крестьяне совершенно по-разному понимали роль Государственной думы. Представления крестьян были весьма далеки от западных теорий парламентаризма. Их очень точно охарактеризовал П.Н. Милюков: «Несомненно, участвуя в выборах в Государственную думу, очень большое количество избирателей держались тех же старинных понятий и до сих пор еще видят в своем депутате ходока, который пойдет к самому царю и прямо от него принесет домой все, что нужно народу»18 .
Думские иллюзии крестьянства следует рассматривать как одно из проявлений патриархально-самодержавного идеала. В приговоре схода села Лесное Матяшино Сенгилеевского уезда от 20 марта 1907 г. говорится: «Царь обещал дать землю и созвал себе на помощь Государственную думу»19 . Крестьяне Ардатовского уезда в ноябре 1905 г. были убеждены в том, что « что все помещичьи земли и леса Государственная дума отдаст им даром»20 .
Разными были представления крестьян и либералов о моделях социального поведения в условиях Смуты. Именно бунт становился главной формой социального поведения крестьянства. В то же время либералы крайне негативно относились к бунту. По словам одного из видных деятелей Союза 17 октября, графа П.А. Гейдена, «аграрное движение вредно, как реакционное»21 .
Иное отношение к крестьянству было характерно для большевиков, эсеров и черносотенцев. Большевики поддержали на III съезде РСДРП выд- винутую Лениным идею революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства, в которой, по мнению Милюкова, «была, в зародыше, вся ленинская программа 1917 года»22 . Большевики и эсеры признавали главную роль аграрного вопроса в революции. По мнению Ленина, аграрный вопрос был «гвоздем русской революции»23 . Для черносотенцев крестьянство являлось фундаментом исторической России, хранителем православия и самодержавия.
РСДРП(б) и ПСР, убедившись на примере событий 1905 г. в том, что русская революция «победоносной... может быть только как крестьянская аграрная революция»24 , подвергли кардинальному пересмотру прежние взгляды и предложили такие варианты решения аграрного вопроса, которые находили отклик в крестьянском сознании. Аграрная программа эсеров, представлявшая собой «наиболее адекватное выражение... крестьянской утопии»25 , предусматривала отмену частной собственности на землю, превращение земли в общенародное достояние, изъятие земли из торгового оборота, запрещение ее купли-продажи, получение земли по потребительской или трудовой норме. Ленинский вариант включал создание крестьянских комитетов, конфискацию всех помещичьих, церковных, монастырских, удельных, государственных и других земель в пользу крестьян, в дальнейшем – национализацию всей земли. Ленин резко критиковал проект «муниципализации» и меньшевистско-либеральную идею о реакционности крестьянства и его борьбы. Различие в отношение к крестьянству и его роли в революции стало тем Рубиконом, который окончательно развел большевиков и меньшевиков.
Поволжские организации РСДРП далеко не сразу приняли ленинскую идею национализации. Участник событий тех лет в Саратове историк Н.М. Дружинин вспоминал: «В аграрном вопросе саратовцы оказались позади, продолжая отстаивать программу возвращения отрезков... Саратовские социал-демократы, привыкшие к формулам II съезда партии... не сумели сразу содвинуться с устаревшей позиции и пойти вперед, вслед за Лениным»26 . Симбирским социал-демократам «захват крестьянами помещичьих земель казался... в начале до некоторой степени возвращением к натуральному хозяйству»27 .
Деревенское Поволжье приняло и социализацию, и национализацию. Оба лозунга оказались созвучны крестьянским представлениям. Для сельчан они означали одно и то же – «черный передел». Об этом свидетельствуют решения сельских сходов. В одном из них говорилось: «Вся земля должна перейти в руки народа, чтобы получать ее мог только, кто на ней работает, и в количестве не меньшем того, какое нужно для необходимого существования по равномерному распределению между всеми на земле трудящимися»28 . Эсеровский журнал «Революционная Россия» еще в 1904 г.
с удовлетворением отмечал: «Мы с нашей социализацией земли угодили в самую точку, крестьяне без всякого труда усваивают себе эту идею»29
Непосредственное соприкосновение с крестьянством способствовало переходу симбирских социал-демократов на ленинские позиции в аграрном вопросе. В одной из листовок, выпущенных Симбирской группой РСДРП в 1905 г., говорилось: «Земли удельные, кабинетские, монастырские и дворянские должны перейти к крестьянам. Если нужно, государство пускай выкупает, а крестьяне уже довольно за землю платили... – теперь они решать будут, как с землей поступать»30 .
Созвучным политической и правовой культуре крестьянства было отношение правых и левых радикалов к Государственной думе. В 1905 г. эсеры выступали с идеей проведения Земского собора, а большевики призывали к созыву Учредительного собрания31 . Революционные партии рассматривали созыв Думы как проявление слабости власти, а ее саму – как трибуну для ведения революционной пропаганды.
Большевики, эсеры, черносотенцы предлагали крестьянству такие модели социального поведения, которые совпадали с его психологической реакцией на ослабление власти и анархию в стране. Черносотенные погромы, эсеровский террор, большевистские призывы к вооруженному восстанию находили отклик у крестьян, совпадали со стихией крестьянского движения. В одной из листовок, написанных осенью 1905 г., Саратовский комитет РСДРП призывал крестьян:
«1) Отказывайтесь платить подати.
-
2) Отказывайтесь идти на военную службу.
-
3) Отказывайтесь повиноваться начальству.
-
4) Закрепляйте приговорами эти отказы.
-
5) Устраивайте демонстрации на ярмарках и базарах.
-
6) Намечайте, какие земли вам нужно будет отбирать у казны, у удела и помещиков.
-
7) Вооружайтесь»32 .
Марксистская идея классовой борьбы оказалась совместимой с характерным для крестьянского мировидения противопоставлением «своих» и «чужих», собственного локального «мира» другим «мирам» и большому обществу, с крестьянскими представлениями о бунте как о форме должного, необходимого социального поведения в условиях разрушения традиционного социального порядка. Ленин и его сторонники, придав бунту статус «крестьянской аграрной революции», стали рассматривать его как наиважнейшую часть социальной революции. Произошло соединение стихии русского бунта и марксистской идеи классовой борьбы, которая «как готовая теоретическая формула, облекла и оформила то чувство ненависти и возмездия, который воспитал в русском человеке старый порядок»33 .
Крестьянским представлениям соответствовала и апологетика сильной власти, характерная для правых и левых радикалов. У большевиков она была представлена в виде идей демократического централизма и революционно-демократической диктатуры. Черносотенные партии оставались верными триаде «православие – самодержавие – народность», были противниками любых ограничений самодержавия.
И все же именно большевики оказались наиболее адекватны массовому сознанию. Большевизм сумел облечь «прошлое» в одежды «будущего» и преподнести себя массам в роли прогрессивного продолжателя имперской традиции, механизма воспроизводства империи, что соответствовало самодержавно-общинным установкам крестьянского сознания. Уже в 1905–1907 гг. партия Ленина проявила себя как партия «нового типа», партия революционного дела, способная к «творческому» применению и переосмыслению теоретических положений, как сила, способная слиться с массами и использовать их энергию. В этом состояло важнейшее отличие РСДРП(б) от всех остальных политических сил страны.
Всем этим и были обусловлены результаты выборов в I и II Государственную думу. Выборы в I Думу завершились победой кадетов. Но эту победу нельзя рассматривать как торжество либеральных идей в России. Это понимал даже лидер кадетов, называвший победу своей партии на выборах «сомнительной»34 . Продолжавшаяся революция, стремление завоевать популярность в массах привели к тому, что кадеты взяли на вооружение антилиберальные идеи и лозунги. Но не этими теоретическими и тактическими метаморфозами объясняется победа кадетской партии. Главной ее причиной стал бойкот выборов со стороны большевиков и эсеров. Это обстоятельство автоматически делало партию народной свободы самой социалистической из принимавших участие в выборах.
Итоги выборов во II Государственную думу показали, что без создания особых условий для либеральных партий их победа просто невозможна. Депутаты-крестьяне распределились между фракциями трудовиков, эсеров и социал-демократов. Такой исход стал итогом участия в выборах социалистов: кадеты утратили монополию на использование социалистических идей и лозунгов. В результате изменений, происшедших по сравнению с первыми выборами, взаимодействие крестьянства и партий стало происходить в рамках алгоритма соответствия. При этом шансов на победу у либералов не было, что и подтвердили результаты голосования.
Список литературы Крестьянство Среднего Поволжья и политические партии в революции 1905-1907 гг.
- Современные концепции аграрного развития (теоретический семинар)//Отечественная история. 1992. № 5. С. 5.
- Марченя П.П. Массовое правосознание и победа большевизма в России. М., 2005. С. 155, 156.
- Сперанский Н.Н. Крестьянское движение в Самарской губернии в годы первой русской революции//1905 год в Самарском крае. Самара, 1925. С. 444.
- ГАСО. Ф. 3500. Оп. 1. Д. 100. Л. 21-22.
- Алексеева Н.В. Идея союза рабочего класса и крестьянства в ранних произведениях В.И. Ленина//Вопросы истории. 1959. № 2. С. 47-48.
- Степун Ф.А. Чаемая Россия. СПб., 1990. С. 323.
- Гинев В.Н. Борьба за крестьянство и кризис русского неонародничества, 1902-1914 гг. Л., 1983. С. 18-19, 21, 27.
- Москалев М. Развитие программы большевистской партии//Исторический журнал. 1939. № 11. С.40.
- Шанин Т. Революция как момент истины: Россия 1905-1907 гг., 1917-1922 гг. М., 1997. С. 281.
- V съезд РСДРП. Протоколы. М., 1963. С. 394.
- Тютюкин С.В., Шелохаев В.В. Марксисты и русская революция. М., 1996. С. 519.
- Клейн Н.Д. Экономические основания аграрных требований поволжских крестьян во время революции 1905-1907 гг.//Классовая борьба в Поволжье 1905-1907 гг. Куйбышев, 1985. С. 30.
- ГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 408. Л. 36.
- П.Н. Милюков: Год борьбы. СПб., 1907. С. 137.
- Крестьянское движение в Симбирской губернии в период революции 1905-1907 гг. Ульяновск, 1955. С. 161.
- Соловьев Ю.Б. Самодержавие и дворянство в 1902-1907 гг. Л., 1981. С. 155.
- Милюков П.Н. Воспоминания (1859-1917). Т. 1. М., 1993. С. 339.
- Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 14. С. 178.
- Медушевский А. Стратегии решения аграрного вопроса в России//Отечественные записки. 2004. № 1 (16). С. 23.
- Дружинин Н.М. В Саратове в 1905 г.//Поволжский край. Вып. 5. Саратов, 1977. С. 71.
- 1905 г. в Симбирске. Симбирск, 1925. С. 32.
- Крестьянское движение в Симбирской губернии в 1905-1907 гг. С. 107.
- Политические партии России в контексте ее истории. Ростов-н/Д., 1998. С. 93.
- Петрова З.П. Большевики во главе всероссийской политической стачки в октябре 1905 года//Вопросы истории. 1955. № 12. С. 147-148.