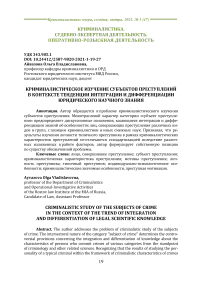Криминалистическое изучение субъектов преступлений в контексте тенденции интеграции и дифференциации юридического научного знания
Автор: Айвазова Ольга Владиславовна
Журнал: Криминалистика: вчера, сегодня, завтра @kriminalistika-vsz
Рубрика: Криминалистика. Судебно-экспертная деятельность. Оперативно-розыскная деятельность
Статья в выпуске: 1 (17), 2021 года.
Бесплатный доступ
Автор обращается к проблеме криминалистического изучения субъектов преступления. Межотраслевой характер категории «субъект преступления» предопределяет дискуссионные положения, касающиеся интеграции и дифференциации знаний об особенностях лиц, совершающих преступления различных видов и групп, с позиции криминалистики и иных смежных наук. Признавая, что результаты изучения личности типичного преступника в рамках криминалистических характеристик преступлений не отличаются стандартизацией вследствие различных изложенных в работе факторов, автор формулирует собственную позицию по существу обозначенной проблемы.
Лицо, совершившее преступление, субъект преступления, криминалистическая характеристика преступления, мотивы преступления, личность преступника, типичный преступник, индивидуально-психологические особенности, криминалистические значимые особенности, преступная мотивация
Короткий адрес: https://sciup.org/143174535
IDR: 143174535 | УДК: 343.985.1 | DOI: 10.24412/2587-9820-2021-1-19-27
Текст научной статьи Криминалистическое изучение субъектов преступлений в контексте тенденции интеграции и дифференциации юридического научного знания
Общий предмет доказывания, предусмотренный ст. 73 УПК РФ, предусматривает ряд элементов, побуждающих субъектов расследования устанавливать совокупность значимых для расследования обстоятельств, в той или иной степени раскрывающих информацию относительно личности лица, совершившего преступление. Одни из них непосредственно направлены на установление данных о личности указанного лица: обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого (п. 3). Другие позволяют получить криминалистически значимую информацию, опосредованно характеризующую привлекаемое к ответственности лицо: — виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы (п. 2); — обстоятельства, смягчающие и (или) отягчающие наказание (п. 6); третьи — в некоторых случаях требуют обращения к личностным данным обвиняемого: обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния (п. 5), обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания (п. 7). Кроме того, даже такой объективный признак преступления, как способ его совершения, в ряде случаев предполагает учет специфических знаний и навыков, которым владеет лицо, совершившее посягательство. В этой связи не случайно в криминалистике всегда уделялось серьезное внимание вопросам изучения личности субъектов, совершивших преступление [1, с. 21—27; 2, c. 84—90].
Лицо, совершившее преступление, всегда интересовало криминалистику не только как носитель определенных материально-фиксированных следов-отображений, выявленных на месте происшествия, по которым возможно осуществить отождествление, но и на более глубинном уровне. В рамках криминалистической характеристики преступлений как важной информативной составляющей частных криминалистических методик расследования отдельных видов преступлений [3, с. 43—55; 4, с. 23—35; 5, с. 7—18], данные о личности типичного преступника, отображающие его криминалистический портрет (синонимичное понятие — психолого-криминалистический портрет), занимают особое место [6, с. 220—224; 7, с. 11—18].
Формирование на основе совокупности достоверных и репрезентативных эмпирических источников обобщенного образа лица, отражающего его физические, физиологические, демографические (возрастные, гендерные и др.), социальные, профессиональные, психологические особенности (а также характерные психические расстройства), является перспективным методико-криминалистическим ресурсом. Подробный добротный психолого-кри-20
миналистический портрет [8, с. 3—11] позволяет не только на этапе выдвижения и проверки следственных версий из определенной совокупности заподозренных лиц выделить тех из них, кто наиболее склонен к совершению расследуемых деяний, исходя из анализа исходной информации. Не менее значима роль такого знания для дальнейшего гибкого и результативного установления и поддержания с этими лицами психологического контакта, выбора средств и приемов тактического воздействия при предъявлении доказательств, формулировании вопросов, планировании и непосредственного выполнения следственных действий [9, с. 745—754], а также диагностики и разоблачения посткриминального противодействия расследованию [10, с. 129—135; 11, с. 169—173].
Вместе с тем изучение типичных субъектов преступлений в рамках формирования криминалистических характеристик не отличается стандартизацией. Излагая комплекс криминалистически значимых качеств, характеризующих лиц, склонных к совершению соответствующей категории деяний, исследователи не вполне используют единообразные критерии (не только по наименованию, но и по сущности, содержанию, объему, соотношению и т. д.). Отчасти эта ситуация предопределена нечеткостью законодательной формулировки в п. 3 ч. 1 ст. 73 УПК РФ. Иначе говоря, законодатель (по крайней мере, для общего предмета доказывания) не конкретизирует, какие именно качества, характеризующие личность обвиняемого, имеют приоритет с точки зрения всесторонности и полноты исследования обстоятельств события, и должны быть достоверно установлены в материалах дела. Другой причиной является то, что с учетом обширного множества категорий деяний, систематизированных в Особенной части УК РФ на самостоятельные разделы и главы, для одних преступных посягательств могут приобретать первоочередную значимость те личностные качества, которые для иных деяний не обладают существенной выраженностью.
В результате далеко не всегда при изложении указанного элемента криминалистической характеристики преступлений комплекс криминалистических особенностей субъектов преступлений представляет собой поистине полный и содержательный психолого-криминалистический портрет, позволяющий его разносторонне использовать как ценный источник ориентирующей информации.
Кроме того, на неполноту изложения в структуре криминалистической характеристики преступлений значимых для расследования типичных качеств субъектов преступления нередко влияет такой аспект, как межотраслевой характер категории «субъект преступления». Как известно, лицо, совершившее преступление, изучается с позиции различных юридических наук: уголовного права, криминологии, криминалистики [12, с. 244—251] и др., а также иных смежных наук, в частности, юридической психологии, судебной психиатрии и др. В этой связи не являются редкостью механические за- имствования в криминалистику данных о субъекте из области указанных смежных наук, без должного адаптирования (приспособления) для разрешения задач, стоящих непосредственно перед криминалистикой. Такой путь экстенсивен, и мало что дает для дальнейшего развития криминалистической науки.
В то же время нередко встречается и другая крайность, когда те или иные полученные исследователями данные, характеризующие лиц, совершивших преступление (возрастные, гендерные, образовательные, социальные, индивидуально психологические особенности, специфика мотивации на совершение и (или) сокрытие преступления и т. п.), подвергаются острой критике и объявляются не относящимися к криминалистической науке. Полагаем, подобные суждения чрезмерно категоричны.
В рамках уголовного права общий или специальный субъект рассматривается с точки зрения наличия качеств, указывающих на его способность осознавать фактический характер совершённого деяния и нести за это ответственность. Для криминалистического изучения лиц, совершивших преступления соответствующей категории, эти знания должны выступать лишь в качестве отправных. Наиболее тонкая грань существует между криминологическим и криминалистическим аспектами изучения лиц, совершивших преступление. Криминология также уделяет значительное внимание характеристике типичных качеств лиц, совершивших преступные деяния соответствующей категории. Эти качества могут иметь совпадения по структуре элементов: возрастные, гендерные особенности, образовательный уровень, степень социализации личности и т. п. Но криминология изучает эти качества личности субъектов преступления в целях разработки комплекса мер, специально направленных на профилактику преступности.
В рамках криминалистики уголовно-правовые и криминологические положения в определенной степени учитываются [13, с. 69—76], однако они подлежат дальнейшей трансформации с точки зрения задач, стоящих перед криминалистикой, а именно обеспечения правоприменительной практики научными рекомендациями, способствующими повышению результативности расследования тех или иных групп преступлений. Например, характеристика возрастных качеств типичных преступников важна не сама по себе, а для того, чтобы сузить круг потенциальных подозреваемых. Учет образовательного уровня субъектов преступления для криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений значим для определения взаимосвязи между общими или специальными знаниями и реализуемыми способами преступления, в свою очередь, отображающимися в пространстве в качестве характерной совокупности следов. Лица, имеющие высшее образование и широкий общий кругозор, а также обладающие специальной (профессиональной) компетентностью, зачастую разрабатывают более сложные и нетривиальные способы совершения и сокрытия преступлений, с учетом име- ющихся у них знаний, умений и навыков. Субъекты, занимающие определенные руководящие посты и (или) имеющие хорошо налаженные корпоративные связи, нередко склонны использовать данный фактор путем совершения тех или иных действий формально от имени других лиц, в результате нередко к уголовной ответственности могут привлекаться лишь рядовые исполнители, а групповой и даже серийный характер деяния остается вне сферы правового воздействия.
Не является самоцелью также установление комплекса индивидуально психологических особенностей, типично присущих субъектам определенных преступлений. Нередко в специальной литературе характеристика личностных особенностей лица, совершившего преступление, трактуется в негативном ключе, как искаженное представление о морально-нравственных ценностях, примитивные жизненные цели и приоритеты, низкий уровень интеллекта, социопатия, стяжательство и т. д. Однако такой подход является стереотипным и упрощенным.
Помимо существования преступных посягательств, совершение которых невозможно без наличия у субъекта высокого уровня интеллекта, специальных знаний и (или) коммуникативных навыков (от хищений, совершённых с использованием высоких технологий, коррупционных преступлений, до организации экстремистского сообщества), далеко не всегда этим лицам свойственна примитивная система жизненных ценностей и ориентиров. Нередко случается так, что высокий интеллект в сочетании с идеализмом и неудовлетворенными запросами (материального и нематериального характера), разочарованием в тех или иных представлениях относительно картины мира и (или) малой социальной группы, на фоне перенесенных в детском или юношеском возрасте и вытесненных в подсознание психотравм, способствует становлению на путь конфликта с законом. Кроме того, совершению различных преступлений служебной направленности предшествует профессиональное выгорание, обусловленное внутриличностным конфликтом.
Ни в коей мере не стремясь морально реабилитировать указанных субъектов, отметим, что более углублённое изучение индивидуальных психологических особенностей лиц, совершивших посягательства определенной группы, результаты которых систематизированно воплощены в криминалистической характеристике, способствует лучшему пониманию характерологических особенностей лиц, подозреваемых или обвиняемых по конкретным уголовным делам о преступлениях соответствующей категории. Это важно не только для создания с этими лицами отношений сотрудничества, формирования доверительной атмосферы, но и для установления подлинных обстоятельств деяния, выявления скрываемых взаимоотношений между лицами, причастными к преступлению (установлению истинных ролей между соучастниками), разоблачения оговора или самооговора.
Кроме того, широко известно суждение о том, что для того, чтобы установить и изобличить лицо, совершившее деяние, необходимо понять побуждения, которыми оно руководствовалось. Это указывает на значимость исследования криминалистических аспектов мотивации противоправного поведения [14, с. 164—167]. Между тем, анализируя многочисленные научные дискуссии, состоявшиеся в процессе защит диссертационных исследований, автор настоящей публикации неоднократно обращала внимание на отсутствие единообразия научных взглядов относительно места преступной мотивации в структуре криминалистической характеристики преступлений.
Одни исследователи признавали особенности мотивации в качестве не только самостоятельных, но и ведущих (ключевых) структурных элементов криминалистической характеристики преступлений [15, с. 34—38]. Другие исследователи ограничивали исследование типичных мотивов, которыми руководствовался подозреваемый (обвиняемый), особенностями личности этих субъектов (т. е. включали мотивы преступления в характеристику типичных особенностей личности преступника). Третьи — не считали необходимым исследовать особенности внутренних преступных побуждений, поскольку они не влияли на квалификацию деяния, рассматриваемого с позиции формирования частной криминалистической методики. Четвертые — вовсе критиковали целесообразность изучения типичных мотивов в рамках криминалистической характеристики преступлений, считая мотивы преступления исключительно уголовно-правовым и криминологическим (но не криминалистическим) понятием.
Уважая точки зрения всех исследователей, сформулируем нашу позицию по существу обозначенного вопроса. Как уже упоминалось, мотивы преступления (наряду с виновностью и формой вины) входят в содержание перечня обстоятельств, подлежащих доказыванию. Поэтому установление формы вины и реализуемых субъектом мотивов необходимо по каждому делу, независимо от того, влияют ли мотивы на квалификацию соответствующего посягательства. Преступление — есть деяние, совершённое только при наличии вины, определяемой как внутреннее (психическое) отношение лица к совершённому действию (бездействию) и наступившим последствиям. Наличие в структуре вины (независимо от её формы) интеллектуальных и волевых аспектов априорно предопределяет факт осознания фактического характера и общественной опасности деяния, а также возможности сознательного управления своим поведением, что объективно позволяет установить побуждения, которыми руководствовалось лицо, принявшее решение о совершении преступления. Приведенное кратко уголовно-правовое понимание вины и мотивов важно для дальнейшего криминалистического исследования.
Относительно статуса знания об особенностях преступной мотивации применительно к структуре криминалистической характеристики преступлений, а именно должно ли оно выступать как самостоятельный элемент или составляющая (компонент) сведений о личности типичного преступника, как представляется, по общему правилу возможны оба варианта. Их выбор зависит от степени выраженности преступной мотивации, её роли в механизме преступного посягательства. Если спектр проявления мотивации достаточно стандартен и не отличается существенным своеобразием (например: корысть в виде разовой выгоды; создание видимости высокого авторитета и (или) более благополучного финансового положения; стремление оказать помощь своим знакомым (близким) в обход существующих правил и т. п.), то достаточно рассмотрения особенностей типичных мотивов в структуре характеристики личности субъектов преступлений. Разумеется, что при этом исследование особенностей преступной мотивации не должно ограничиваться перечислением выявленных типичных мотивов, ибо в таком случае происходит возврат в криминологическую плоскость знания, тогда как для криминалистики важна взаимосвязь мотивации с личностью субъекта преступления, его действиями по совершению и сокрытию деяния, а также иными элементами механизма преступления.
Однако, если преступная мотивация отличается выраженной поливариантностью, при этом тот или иной мотив детерминирует не только качественно различный объем, сущность и содержание действий по совершению и сокрытию преступлений, но и обусловливает причастность к деянию кардинально разных типов субъектов, то целесообразно рассматривать особенности преступной мотивации в качестве самостоятельного элемента криминалистической характеристики. В подобных случаях даже мотивы, внешне, на первый взгляд, относящиеся к одной природе, нередко на глубинном уровне существенно разнятся и формируют качественно различную модель механизма преступления. Например, корыстные мотивы могут быть связаны как с разовым получением материальной выгоды, так и с созданием организованного формирования, осуществляющего противоправную деятельность в качестве своеобразного теневого бизнеса, приносящего сверхдоходы.
Наконец, существуют деяния, где роль мотивации в системе механизма преступления не только весьма высока, но и где, исходя именно из наличия специфической мотивации, возможно дифференцировать посягательство по отношению к смежным деяниям. Типичным примером являются преступления экстремистской направленности, к которым, согласно определению, изложенному в примечании 2 к ст. 282.1 УК РФ, относятся деяния, совершённые по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти и вражды, а равно по мотивам ненависти и вражды в отношении какой-либо социальной группы. Иными словами, практически всякое посягательство, если оно совершено под воздействием указанных мотивов, относится к категории преступлений экстремистской направленности. Поэтому в подобных случаях закономерно, что именно мотивация должна выступать не только в качестве самостоятельного, но и системообразую- щего, ключевого, ведущего, краеугольного элемента криминалистической характеристики преступлений.
Резюмируя вышеизложенное, констатируем, что мотивы или побуждения продуцируются сознанием лица, совершившего преступление, отражают его психическую составляющую (включая индивидуально-психологические особенности, текущие психологические процессы и состояния, реакции на психотравмирующие ситуации и т. п.). Поэтому они образуют коррелятивные связи со способами совершения преступлений, внешне отображаясь в следах соответствующего воздействия на окружающее пространство и (или) личность потерпевшего. Анализ преступной мотивации нередко может объяснить выбор личности потерпевшего и (или) предмета преступного посягательства, внутренние причины, объясняющие поведение лица в определенной ситуации. Поэтому мы убеждены в важности исследования криминалистических аспектов преступной мотивации в силу её безусловного влияния на поведенческие особенности данного лица и способности послужить своеобразным информационным ключом к выявлению иных значимых для расследования обстоятельств.
Список литературы Криминалистическое изучение субъектов преступлений в контексте тенденции интеграции и дифференциации юридического научного знания
- Варданян А. В. Посткриминальное поведение и элементы криминалистической характеристики преступлений, предусмотренных статьей 105 Уголовного Кодекса Российской Федерации (ч. 1) / А. В. Варданян, А. С. Андреев // Юристъ-Правоведъ. — 2016. — № 2 (76). — С. 21—27.
- Грибунов О. П. Типология личности несовершеннолетних, совершающих преступления в составе организованных групп / О. П. Грибунов, С. Г. Загорьян // Юридический вестник Самарского университета. — 2019. — Т. 5. — № 3. — С. 84—90.
- Головин А. Ю. Криминалистическая характеристика преступлений как категория современной криминалистики / А. Ю. Головин // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. — 2012. — № 1—2. — С. 43—55.
- Варданян А. В., Грибунов О. П. Современная доктрина методико-кримина-листического обеспечения расследования отдельных видов преступлений / А. В. Варданян, О. П. Грибунов // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. — 2017. — № 2 (81). — С. 23—35.
- Грибунов О. П. Эволюция взглядов на понятие и структуру криминалистической характеристики преступлений / О. П. Грибунов, Н. А. Назырова // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. — 2020. — № 2. — С. 7—18.
- Халиков А. Н. Криминалистические особенности изучения личности преступника, при расследовании взяточничества, совершенного должностными лицами правоохранительных органов / А. Н. Халиков // Криминалистические чтения, посвященные 100-летию со дня рождения профессора Б. И. Шевченко. Тезисы выступлений. — М., 2004. — С. 220—224
- Грибунов О. П. Криминалистическая характеристика личности мошенника (на примере ч. 5—7 ст. 159 УК РФ) // О. П. Грибунов, А. Н. Залескина // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. — 2018. — № 3—2. — С. 11—18.
- Варданян А. В. Научный потенциал методики построения психолого-криминалистического портрета личности типичного преступника в контексте проблемы совершенствования криминалистической характеристики преступлений / А. В. Варданян // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики: сб. тр. участников XII всерос. науч.-практ. конф. — Ростов-н/Д., 2015. — С. 3—11.
- Варданян А. В. Криминалистический анализ субъектов преступлений, связанных с воспрепятствованием законной предпринимательской или иной деятельности, как фактор повышения результативности расследования / А. В. Варданян, В. В. Казаков // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. — 2015. — Т. 9. — № 4. — С. 745—754.
- Варданян А. В. Криминалистические знания о посткриминальной деятельности: проблемы формирования и развития / А. В. Варданян // Философия права. — 2020. — № 1 (92). — С. 129—135.
- Варданян А. В. Посткриминальное противодействие раскрытию и расследованию тяжких преступлений против личности / А. В. Варданян // Юристъ-Правоведъ. — 2020. — № 1 (92). — С. 169—173.
- Варданян А. В. Субъект преступления и личность преступника как междисциплинарные категории уголовно-правовых наук: вопросы соотношения и интеграции / А. В. Варданян // Всероссийский криминологический журнал. — 2016. — Т. 10. — № 2. — С. 244—251.
- Гармаев Ю. П. Использование уголовно-правовых и криминологических данных в криминалистических характеристиках и методиках расследования преступлений / Ю. П. Гармаев // Социология уголовного права: коллизии уголовно-правовой статистики: сб. ст. по мат-лам II междунар. науч.-практ. конф. — М., 2014. — С. 69—76.
- Варданян А. В. Особенности формирования преступной мотивации у лиц, имеющих психические расстройства, не исключающие вменяемости, при совершении ими преступлений против жизни и здоровья личности на сексуальной почве / А. В. Варданян // Вестник Волгоградской академии МВД России. — 2014. — № 3 (30). — С. 164—167.
- Варданян А. В. Мотивация тяжких насильственных преступлений против личности как основание для их криминалистической классификации. Типичные места совершения насильственных преступлений против личности / А. В. Варданян, Е. В. Говорухина // Юристъ-Правоведъ. — 2015. — № 3 (70). — С. 34—382.