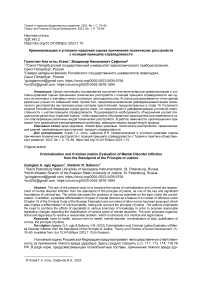Криминализация и уголовно-правовая оценка причинения психических расстройств с позиций принципа справедливости
Автор: Агаев Г.А., Сафонов В.Н.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 1, 2023 года.
Бесплатный доступ
Целью настоящего исследования выступает изучение вопросов криминализации и уголовно-правовой оценки причинения психических расстройств с позиций принципа справедливости как одного из ключевых и значимых начал уголовного законодательства. В статье рассматриваются точки зрения различных ученых по избранной теме. Кроме того, предложена возможная дифференциация видов психического расстройства как признака ряда составов преступлений, предусмотренных в главе 16 Уголовного кодекса Российской Федерации и ряде других норм, что предполагает и дифференциацию уголовной ответственности с учетом принципа справедливости. Подчеркивается необходимость объединения усилий специалистов различных отраслей знания, чтобы предложить обоснованные законодательные изменения в части классификации различных видов психических расстройств. В работе намечаются организационно-правовые пути разрешения рассматриваемой проблемы, имеющей медико-юридическую природу.
Вред здоровью, тяжкий вред здоровью, психическое расстройство, криминализация деяний, квалификация преступлений, принцип справедливости
Короткий адрес: https://sciup.org/149141968
IDR: 149141968 | УДК: 343.2 | DOI: 10.24158/tipor.2023.1.10
Текст научной статьи Криминализация и уголовно-правовая оценка причинения психических расстройств с позиций принципа справедливости
1,2Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation, St. Petersburg, Russia 2North-Western Branch of the Russian State University of Justice, St. Petersburg, Russia , ,
ровью понимается как способ совершения преступления квалифицированным либо особо квалифицированным составом (п. «в» ч. 5 ст. 131, п. «в» ч. 5 ст. 132, п. «в» ч. 4 ст. 162, п. «в» ч. 3 ст. 163 и др. ст. УК РФ).
Причинение психического расстройства трактуется в ст. 111 УК РФ как квалифицирующий признак тяжкого вреда здоровью. По существу, указанная норма содержит бланкетную диспозицию, так как для понимания признаков тяжкого вреда здоровью правоприменитель должен обратиться к нормам другой законодательной отрасти.
Правила определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, утверждённые постановлением Правительства РФ от 17.08.2007 № 5221 (п. 4а), и п. 6.8 Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, принятых приказом Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008 № 194н2 (далее – Медицинские критерии), описания или перечня психических расстройств не содержат.
Известно, что согласно международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) психические расстройства составляют самостоятельный класс заболеваний (класс V рубрики F00-F99) и включают более 300 болезней. Однако из буквального толкования положений ст. 111 УК РФ и Медицинских критериев описания перечня психических расстройств, к сожалению, вытекает лишь один вариант квалификации причинения психического расстройства – тяжкий вред здоровью человека независимо от глубины поражения психики и продолжительности расстройства здоровья. По нашему убеждению, подобный подход законодателя нарушает принцип справедливости и поэтому нуждается во всестороннем исследовании.
Между прочим, понимание тяжких телесных повреждений по признаку душевной болезни в доктрине обнаруживает серьёзные расхождения, а перечень нервных расстройств, не относящихся к ней, определяется субъективно, произвольно. Так, А.А. Пионтковский (Пионтковский, Меньшагин, 1955), как и авторы учебников более позднего периода3, полагал, что как тяжкое телесное повреждение (в терминологии УК РСФСР) следует рассматривать лишь серьёзное психическое заболевание. А.П. Филиппов включал в их число только неизлечимые и хронические психические заболевания (Филиппов, 1964: 63). В.С. Трахтеров к душевной болезни – виду тяжкого телесного повреждения – относил лишь такой психический недуг, который имеет хронический, постоянный характер4. В.В. Орехов любое стойкое расстройство психической деятельности признавал тяжким телесным повреждением5.
Большинство же советских криминалистов к тяжким телесным повреждениям относили не только хронические психические заболевания, но и временные, излечимые (Загородников, 1969: 52–53; Никифоров, 1959: 31; Ной, 1959: 69–72; Викторов, 1953: 66, 67; Шаргородский, 1953).
Этой позиции придерживался и А.П. Дубовец. Ученый не относил к душевной болезни неврозы: неврастению, психостению, истерию и т.п., для которых «характерны неглубокие изменения нервной системы» (Дубовец, 1964: 72–73).
Д.С. Читлов также не включал в число тяжких телесных повреждений неврозы и реактивные состояния, указывая, что это не душевная болезнь (Читлов, 1974: 66–67), а Б. Сарыев – нервные расстройства и неврозы: истерии, психопатии и др. (Сарыев, 1973: 152–153).
Следует особо подчеркнуть, что с принятием УК РФ 1996 г. ушли в историю такие категории уголовного закона, как «тяжкое телесное повреждение», «душевная болезнь» (ст. 108 УК РСФСР), уступив место в ст. 111 УК РФ, казалось бы, схожим понятиям – «тяжкий вред здоровью» и «психическое расстройство», что проблем только добавило, т.к. исчезла грань, отделяющая душевные болезни от иных психических расстройств.
Некоторые исследователи сожалеют по поводу произошедшей «терминологической модернизации», т.к. толкование термина «душевная болезнь» позволяло совершать своего рода «семантический маневр», очень важный для правильной квалификации рассматриваемой группы преступлений: к душевным болезням относились не все психические заболевания, а лишь наиболее тяжелые из них. Этим «закладывалась основа деления всех психических расстройств, возникающих у потерпевшего вследствие совершенного в отношении него преступления, на три вида, которые соответствовали трем категориям тяжести “телесного повреждения”: тяжкое, менее тяжкое, легкое» (Безручко, 2013: 74–77; Шишков, 2010: 26–30).
Справедливости ради отметим, что в действительности законодатель умышленно не шёл на дифференциацию уголовной ответственности за преступления против психического здоровья за отсутствием убедительного социального заказа (криминологического обоснования), очевидность чего стала бесспорной лишь в последние два десятилетия (многообразие информационного и неинформационного воздействия на психику человека, другие социальные факторы). Среди прочего – «правоприменительные зигзаги» начала XX века, что подтверждают опубликованные материалы по «Бесланскому делу» (речь идёт об уголовном деле, возбуждённом по факту террористического акта, имевшем место 1–3 сентября 2004 г. в школе № 1 г. Беслан Республики Северная Осетия – Алания), когда в основе такого «деления» лежали размеры денежных компенсаций в пользу жертв теракта, а не обозначенные в уголовном законе признаки состава преступления. Эта непоследовательность в оценке тяжести психических расстройств актуализировала социальный запрос на дифференциацию уголовной ответственности за преступные посягательства на психическое здоровье человека (О необходимости разработки специального перечня медицинских критериев к квалифицирующему признаку «психическое здоровье» …, 2008: 3–7).
Между прочим, в литературных источниках, относящихся к периоду действия УК РФ, понимание сущности психического расстройства стало ещё более полярным, но не более убедительным. Так, авторы комментария к УК РФ под общей редакцией В.М. Лебедева к психическим расстройствам относят любое душевное заболевание независимо от тяжести, продолжительности, излечимости или неизлечимости, но к тяжкому вреду, причинённому здоровью, не причисляют расстройства нервной деятельности (неврозы, психастения, истерия и т.п.)1. Напротив, коллектив авторов учебника по уголовному праву под редакцией профессора А.И. Рарога под психическим расстройством (ст.111 УК РФ) понимает любое известное психиатрии заболевание (в том числе и временное психическое расстройство)2.
На разнохарактерность и противоречивость мнений учёных-криминалистов, что не позволило им предложить более определённые рекомендации для практиков, указывают В. Векленко и М. Галюкова. Причина этого, считают названные ученые, состоит в том, что юристы, не будучи специалистами в области психиатрии и судебной медицины, разрешить данный вопрос пытались путём механического его переноса в сферу судебно-медицинской оценки (Векленко, Галюкова, 2005: 33–34). Свои предложения В. Векленко и М. Галюкова в основном сводят к определению насильственно обусловленного круга психических расстройств, выделению трёх степеней тяжести вреда здоровью в зависимости от характеристик психического расстройства: лёгкого, средней степени и тяжкого; процедуре определения степени тяжести вреда здоровью при психических расстройствах. Ставя под сомнение критерии «стойкая утрата трудоспособности (присоединяясь к точке зрения И.С. Ноя и др.) и «длительность или кратковременность расстройства здоровья», они предлагают учитывать «объективно существующий психический вред, причинённый здоровью потерпевшего» (Векленко, Галюкова, 2005).
Приветствуя идею градации психических расстройств по степеням тяжести, мы не можем согласиться с ограничением психических расстройств только случаями насилия (физического или психического) с учётом понимания криминального насилия (Сердюк, 2002: 22)3. Напротив, в научной литературе убедительно обосновывается выделение соматической и психической природы психического расстройства (Шишков, 2010: 30).
Действительно, психические расстройства могут быть разными по глубине поражения психики и продолжительности болезненными состояниями – от наиболее тяжёлых до самых незначительных, от хронических до кратковременных. Такое понимание психических расстройств позволило А.А. Ткаченко и Е.Ю. Яковлевой – учёным в области судебной психиатрии – утверждать, что причинно связанные с травмирующим воздействием психические расстройства потерпевших в принципе могут отвечать квалифицирующим признакам всех степеней тяжести вреда здоровью (ст. 111, 112, 115 УК РФ) (Ткаченко, Яковлева, 2008: 15–20; О необходимости разработки специального перечня медицинских критериев к квалифицирующему признаку «психическое здоровье» …, 2008: 3–7). Настаивая на несостоятельности критерия «утрата общей трудоспособности», в качестве равноценного аналога его они предлагают использовать понятие «дезадаптация». Причем авторы считают необходимым дифференцировать типы указанного явления: по длительности действия они различают стойкую, временную и кратковременную дезадаптацию, а по сферам личностного функционирования – социальную, семейную, трудовую, школьную с соответствующими критериями ограничения сфер жизнедеятельности.
Возможный подход предлагает С.Н. Шишков. Его суть состоит в замене термина «психическое расстройство» другим – «тяжелое психическое расстройство», что позволит классифицировать все психические расстройства по трем категориям вреда здоровью, предусмотренным УК. Критерием деления, считает исследователь, может служить степень и длительность утраты потерпевшим трудоспособности или степень нарушения его социальной адаптации (Шишков, 2010: 30). С.Н. Шишков не одинок в своих суждениях, тем более термин «тяжелое психическое расстройство» уже известен законодателю, медикам, а также юристам. В частности, его употребление предусматривает закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» (ч. 4 ст. 23 и ст. 29).
Таким образом, возвращаясь к основному вопросу, отметим, что изложенные выше теоретические положения, касающиеся идеи градации психических расстройств по степени тяжести, находят свою обоснованность с позиции принципа справедливости. Закон по определению справедлив, а справедливость – это внутреннее свойство и качество закона. Фактически проблема соотношения справедливости и закона сводится к проблеме существования правовых и неправовых законов.
Многократно права Н.Ф. Кузнецова, отмечая: «Справедлив закон, который, во-первых, социально обоснован и отражает правосознание общества, защищает его интересы. Во-вторых, он отвечает требованиям криминологической обоснованности»1.
При формально едином законодательном варианте правового регулирования сложившаяся следственно-судебная практика правовой оценки криминального причинения психических расстройств характеризуется разновекторными подходами, среди которых можно обнаружить и аргументы экономического свойства, что противоречит ряду фундаментальных уголовно-правовых подходов и требованиям квалификации деяний. Фрагментарный подход к квалификации и наказанию преступного причинения психических расстройств в отсутствие официальной дифференциации ответственности имеет недопустимо широкие пределы: от констатации легкого вреда здоровью с санкцией, не связанной с лишением свободы (ч. 1 ст. 115 УК РФ), до умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111) с санкцией до 8 лет лишения свободы (в нормах с квалифицированными составами наказание строже).
В качестве конкретных рекомендаций по затронутой проблеме считаем уместным предложить следующее. Криминализация причинения психических расстройств, квалификация таких деяний и дифференциация уголовной ответственности за их причинение должны учитывать глубину поражения психики и продолжительность расстройства здоровья, что согласуется с принципом справедливости.
Криминализация причинения психических расстройств и возможная дифференциация ответственности за их причинение в зависимости от степени тяжести не могут осуществляться приблизительно. Для нас очевидно, что предложить законодательные изменения в части такой классификации может объединение усилий специалистов различных отраслей знания: в области медицины, в том числе психиатрии и судебной психиатрии, права. Организационно, с учётом относительно давней истории, сложности и междисциплинарного характера проблемы, её разрешение целесообразно начать с усилий единого рабочего органа (межведомственной комиссии и т.п.) с привлечением специалистов высокого уровня.
Конечно, мы понимаем, что столь радикальное предложение может быть принято не всеми правоведами, специалистами в области психиатрии и судебной медицины, но уверены в том, что подобный подход может быть хорошим поводом для научной полемики в целях формулирования новой уголовной политики в данной сфере.
Список литературы Криминализация и уголовно-правовая оценка причинения психических расстройств с позиций принципа справедливости
- Безручко Е.В. Психическое расстройство человека как основной признак тяжкого вреда здоровью // Юрист-Право-ведъ. 2013. № 3 (58). С. 74-77.
- Векленко В., Галюкова М. Психическое расстройство как признак причинения вреда здоровью // Уголовное право. 2005. № 2. С. 22-23.
- Викторов О.С. Телесное повреждение и психическая травма // Известия высших учебных заведений. Серия: Правоведение. 1958. № 4. С. 63-69.
- Галюкова М. Правила определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью человека // Уголовное право. 2008. № 1. С. 33-34.
- Дубовец А.П. Ответственность за телесные повреждения по советскому уголовному праву. М., 1964. 160 с.
- Загородников Н.И. Преступления против здоровья. М., 1969. 168 с.
- Никифоров А.С. Ответственность за телесные повреждения. М., 1959. 128 с.
- Ной И.С. Критерии умышленного тяжкого телесного повреждения без отягчающих обстоятельств по УК РСФСР // Ученые записки Саратовского юридического института им. Д.И. Курского. Вып. 8. Саратов, 1959. С. 32-43.
- О необходимости разработки специального перечня медицинских критериев к квалифицирующему признаку «психическое здоровье» / В.А. Клевно [и др.] // Судебно-медицинская экспертиза. 2008. Т. 51, № 6. С. 1-8.
- Пионтковский А.А., Меньшагин В.Д. Курс советского уголовного права. Особенная часть : в 2 т. М., 1955. Т. 1. 800 с.
- Сарыев Б. Ответственность за преступления против жизни и здоровья. Ашхабад, 1973. 247 с.
- Сердюк Л.В. Насилие: криминологическое и уголовно-правовое исследование. М., 2002. 384 с.
- Ткаченко А.А., Яковлева Е.Ю. Методологические принципы судебно-экспертной оценки степени тяжести вреда здоровью в виде психического расстройства // Российский психиатрический журнал. 2008. № 4. С. 15-20.
- Филиппов А.П. Расследование и предупреждение телесных повреждений. М., 1964. 100 с.
- Читлов Д.С. Охрана здоровья граждан от тяжких насильственных посягательств. Уголовно-правовое и криминологическое исследование. Саратов, 1974. 182 с.
- Шаргородский М.Д. Ответственность за преступления против личности. Л., 1953. 106 с.
- Шишков С.Н. Психическое расстройство как разновидность вреда, причинённого здоровью потерпевшего // Законность. 2010. № 8 (910). С. 26-30.