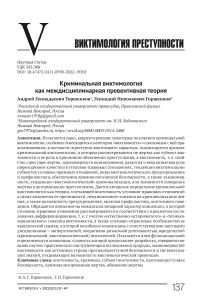Криминальная виктимология как междисциплинарная превентивная теория
Автор: Горшенков А.Г., Горшенков Г.Н.
Журнал: Виктимология @victimologiy
Рубрика: Виктимология преступности
Статья в выпуске: 2 т.9, 2022 года.
Бесплатный доступ
Излагаются идеи, корректирующие некоторые положения криминальной виктимологии, особенно относящихся к категории «виктимность» и связанным с ней правоотношениям, в частности «преступно-виктимного» характера. Анализируется предмет криминальной виктимологии, в котором рассматриваются не жертва как субъект виктимности и ее роль в причинном объяснении преступления, а виктимность, т. е. свойство, присущее жертве, закономерности возникновения, развития и неоднозначная роль (переходчивое качество) в уголовно-правовых отношениях, тенденции виктимизации субъектов уголовно-правовых отношений, меры виктимологического предупреждения и профилактики, обеспечения криминологической безопасности, а также закономерности, тенденции «виктимологической» криминализации, или значимости поведения жертвы в детерминации преступления. Дается авторское определение криминальной виктимологии как теории, изучающей виктимность уголовно-правовых отношений в целях выяснения ее причинности, неоднозначного влияния на криминализацию деяния, а также возможности предупреждения, включая профилактику, виктимного поведения. Обращается внимание на междисциплинарный характер концепции, в которой уголовно-правовые отношения рассматриваются в соответствии с предметом исследования дифференцированно, т. е. с учетом «естественно-исторического» и «технико-юридического» генезиса виктимности, а также уголовно-отраслевых особенностей ее юридической оценки, в которой неизбежна взаимосвязь с сопутствующими научными дисциплинами - экспертологией, оперативно-розыскной деятельностью, юридической (криминальной, виктимологической) психологией. Излагаются идеи функциональной определенности концепции, сущность которой предполагает разработку, совершенствование научно-практического инструментария исследования природы, закономерностей виктимности как источника угрозы противопреступной безопасности и систематизации знаний, открывающих возможности виктимологической превенции.
Виктимность, криминал, субъект виктимности, противопреступная безопасность, криминализированная жертва, обвинение жертвы
Короткий адрес: https://sciup.org/14124350
IDR: 14124350 | УДК: 343.988 | DOI: 10.47475/2411-0590-2022-19201
Текст научной статьи Криминальная виктимология как междисциплинарная превентивная теория
,
Предмет нашего исследования — «криминальная виктимология» как теория, в которой должны систематизироваться знания о претерпевании вреда, причиняемого преступлением (единственного, истинного по Ч. Беккария, мерила преступлений). Обращаемся к данной концепции исключительно как предмету криминологического интереса. Причем, наши рассуждения будут обращены только к физическим лицам, которым преступлением причинен (либо может быть причинен) физический, имущественный, моральный вред (ч. 1 ст. 42 УПК РФ), хотя потерпевшими уголовный закон признает и юридических лиц — в случае причинения преступлением вреда их имуществу и деловой репутации.
«Криминологический интерес» означает отнюдь не столько социологическую (хотя без этой составляющей обойтись невозможно), сколько нормативистскую (закрепленную в нормах права) сущность предмета изучения. В соответствии с новой научной специальностью 5.1.4 — Уголовно-правовые науки ( теория уголовного права, криминологии, уголовно-процессуального права, уголовно-исполнительного права, криминалистики, экспертологии, оперативно-розыскной деятельности) криминальная виктимология трактуется нами как междисциплинарная теория о жертве криминалосодержащих угроз .
Что мы имеем в виду под этим термином «криминалосодержащие угрозы»? Угроза есть возможность, намерение общественно опасного, точнее, вредного (целенаправленного или неосторожного) воздействия с признаками уголовной ответственности.
То есть, по сути, необходимо рассматривать феномен криминологической безопасности личности. Например, М. П. Клейменов и А. В. Артемов определяют содержание данной криминологической категории как «состояние защищенности законных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, источниками которых выступают явления, которые в той или иной степени связаны с преступностью, общественно опасными посягательствами, криминальной деятельностью, интересами криминалитета» [1], т. е. явления, качественное состояние которых определяет криминал .
Слово «криминал» имеет разные значения. Например, в переводе с латинского crimen означают в частности: «обвинение», «упрек», «обвиняемый», «преступник», «вина», «проступок», «грех», «преступление», «прелюбодеяние», «недостаток», «вред»1; «предмет разбирательства»», «дело», «судебное исследование», «уголовное судопроизводство» [2, с. 35].
Здесь же нельзя обойти вниманием и слово criminalis , что в переводе с латинского означает «преступный», «относящийся к преступлению». Таким образом, учение о преступлении, или относящемся к преступлению, именовалось как «криминальное» — «криминальная теория», «криминальное право». Аналогичное «клеймо» получают и («криминальная») жертва ( victima ) и («криминальное») учение о жертве — криминальная виктимология , образно говоря своего рода дитя родственных уголовноправовых наук .
Традиционно криминальная виктимо-логия отождествляется с криминологической виктимологией . Например, один из основоположников рассматриваемой теории проф. Д. В. Ривман, размышляя о ее будущем, писал так: на данном этапе (начала 2000-х годов) «криминальная (криминологическая) виктимология… — э то новое научное направление, развивающееся в рамках криминологии… она, скорее всего, останется в составе криминологии и в том случае, если получат развитие исследования жертв не криминального происхождения (выделено нами — авт .), которые, что вполне возможно, оформятся в самостоятельную научную дисциплину» [3, с. 16–17] (уточним: уголовно- правового цикла).
Мы знаем, что научное познание подчинено соответствующим закономерностям: увеличение информационной емкости теорий; переход от относительно простого знания явлений, процессов к знанию более сложному; активность интеграционных связей различных, особенно смежных областей знания, инновационной мысли ученого [4, с. 211]…
В истории развития юридической мысли о преступлении как социально-правовом явлении хорошо «просматривается» действие законов дифференциации (формирование и в дальнейшем выделения новых научных дисциплин — из «расширенной» уголовно-правовой науки, как это начиналось в XVIII веке) и интеграции (противоположной тенденции объединения «родственных» научных дисциплин, как это мы наблюдаем сегодня в лице относительно новой научной специальности 5.1.4 — Уголовно- правовые науки).
Поистине провидец виктимологической науки, криминолог Д. В. Ривман обратил внимание на « некриминальное происхождение » жертвы как специфическую особенность предмета криминологического исследования. В связи с этим представляется перспективным рассмотреть виктимоло-гический феномен в междисциплинарном, т. е. уголовно-правовом аспекте, или в парадигме «криминальной виктимологии», в которой сфокусированы предметные интересы прежде всего теорий материального, процессуального, исполнительного права, криминологии. И, что немаловажно, эти интересы отвечают в частности межотраслевому принципу гуманизма (ст. 7 УК РФ; ст. 9, 10, 11 УПК РФ; ст. 8 УИК РФ; человекоцентрический подход в криминологии).
Единым объектом междисциплинарного исследования выступает лицо, претерпевающее вред от криминалосодержащих воздействий. Критерии оценки юридической стороны статуса «жертвы» (признанной потерпевшим), в частности определены уголовным правом, уголовно-процессуальным правом (например, ст. 42 УПК РФ — «Потерпевший»; ст. 76 УК РФ — о возможности, освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего преступление, в случае его примирения с потерпевшим и загладившего причиненный потерпевшему вред, ст. 25 УПК РФ, аналогично ст. 76 УК РФ, допускающая прекращение уголовного дела при наличии соответствующих обстоятельств за примирением с потерпевшим, при наличии заявления от последнего). И целый ряд других регулятивных норм.
Кстати, ныне разработана комплексная теория безопасности личности в уголовном судопроизводстве, в которой представлена система профилактики противоправного воздействия на защищаемых лиц, дана классификация уголовно-процессуальных мер безопасности [5]. Активно ведутся теоретические разработки проблемы пенитенциарной виктимологии как относительно осужденных [6, с. 36–41], так и сотрудников исполнительной системы [7].
Таков «информационный фон», на котором мы намерены развернуть некоторые мысли, укрепляющие представления о коренном феномене криминальной вик-тимологии — виктимности.
Основная часть
Виктимность как объект , т. е. существующий объективно , независимо от нашего сознания, тем не менее, «подчинен» нашему исследовательскому интересу, что обращает виктимность в предмет научного изучения.
К предмету исследования мы относим, во-первых , закономерности, тенденции виктимизации субъектов уголовно- правовых отношений, меры виктимологического предупреждения и профилактики, меры обеспечения криминологической безопасности; во-вторых , закономерности, тенденции, образно говоря, «виктимологической» криминализации, или роль, значение поведения жертвы в детерминации преступления . Например, виктимность может иметь юридические свойства, а именно придающие обстоятельствам такое качество, которое может оцениваться в соответствии с УК РФ и УПК РФ как смягчающими наказание.
В рассматриваемом аспекте поведение субъекта виктимности — жертвы оценивается как криминогенный фактор . Это не соотносится с привычным, сочувственным отношением к жертве как претерпевающей вред от преступного деяния и потому заслуживающей поддержки и защиты. Однако уже изначально осмысление новой категории, вводимой в научный аппарат антрополого- социологического направления уголовно-правого учения о преступлении охватывало не только сложный, биопсихосоциальный характер отношений преступника и жертвы как важнейших элементов (механизма) преступления, но и их контрастную направленность.
Например, основоположник виктимо-логии (криминальный виктимолог) Б. Мендельсон распределял жертвы на шесть категорий: 1) полностью невинная жертва; 2) жертва, виновная в меньшей степени — например, по неведению; 3) добровольная жертва, т. е. вина которой равна виновности преступника; 4) жертва, виновная в большей мере, чем преступник, — спровоцировавшая его; 5) виновная жертва — получивший отпор насильник, грабитель;
-
6) мнимая жертва — не пострадавшая, но заявляющая ложные обвинения1.
Правда, критики упрекают ученого в предвзятости, который, в силу своего профессионального уклона (он был криминальным адвокатом более чем высокого ранга, или барристером ) искал всяческие изъяны, детали, с помощью которых можно было посеять сомнения в невиновности жертвы, разочаровать сочувствующих2.
Увы, в этом наблюдается объективная закономерность — процессуальная состязательность, в которой состязатель предпринимает все возможное, чтобы выиграть процесс . А правила игры могут быть любые: «Разрешено все, что не запрещено законом». Этот либеральный принцип приемлем и для стороны обвинения, и для стороны защиты.
В числе проблем криминальной вик-тимологии следует выделить в первую очередь причинность , или виктимологи-ческую детерминацию и предупреждение , в лучшем случае, — причинности (на что главным образом направлена виктимо-логическая профилактика), а затем минимизация деструктивных процессов (виктимизации), с одной стороны, и процессов криминализации, — с другой.
Здесь уже имеем дело с предотвращением, пресечением преступного посягательства на личность, т. е. обеспечением так называемой криминологической, точнее , противопреступной безопасности личности.
Противопреступная безопасность
Разработчики концепции криминологической безопасности выделяют два смысловых аспекта относительно определяемых нами уголовно-правовых отношений. Один из них (назовем его криминальный аспект) — обусловлен субъектом явно преступного или общественно опасного поведения; другой (явно виктимологический) — обусловлен объектом защиты, или жертвы. Оба аспекта можно определить как стороны взаимодействия, анализ которого предпочтительно проводить с помощью системно-синергетического метода.
Далее следует интересное наблюдение разработчиков в отношении приоритетов предупредительного воздействия, или, как у авторов, «иерархии форм деятельности по обеспечению криминологической без-опасности»3. На высший иерархический уровень они помещают объект защиты (т. е. потенциальную жертву) и проводят ориентацию на оборонительную , точнее, оберегательную стратегию обеспечения криминологической (виктимологической) безопасности. В этом проявляется первостепенная функция предупредительнозащитительной деятельности.
Вторая, не менее важная функция обеспечения безопасности жертвы как субъекта уголовно-правовых отношений заключается «в наступательном» (употребим такой термин) воздействии уже на сам источник криминальной угрозы.
Однако нередко эти виды — викти-мологического и антикриминального — противодействия угрозам реализуются одновременно.
Уголовно-правовые (материальные, процессуальные, исполнительные, криминологические) отношения весьма многообразны, как многообразны угрозы безопасности их субъектам. Вспомним общее их определение, которое приведено выше: явления, в той или иной мере связанные с преступностью, общественно опасными посягательствами, криминальной деятельностью (М. П. Клейменов, А. В. Артемов).
«Криминологическая безопасность» — термин не совсем удачный: он сглаживает остроту криминальной угрозы и рискованность противодействия преступности. Его сущность выражена главным образом в криминологической профилактике — выявлении, изучении криминогенных (вик-тимогенных) факторов, разработке мер, направленных на минимизацию потенциала указанных факторов, вплоть до их возможного устранения.
Данный вид деятельности не предполагает ни специфического объекта, ни специфических методов его защиты от преступлений. Для этой деятельности важно обеспечить условия безопасности , т. е. условия, в которых отсутствует возможность для возникновения так называемых «фоновых явлений» общественной опасности , сопряженной как правило с виктимностью. В то же время, как в любом другом виде деятельности по обеспечению безопасности личности от криминальной угрозы (уголовно-правовой, уголовно-процессуальной, пенитенциарной и т. п.), применяются любые легитимные меры предупреждения (профилактики, предотвращения, пресечения)1.
В криминологической науке разработана соответствующая междисциплинарная теория антикриминальной безопасности личности [8]. Ее автор предлагает следующие приоритетные направления изучения данной проблемы, в частности: уголовно-правовое, уголовно-процессуальное, оперативно-розыскное, антитер-рористическое, пенитенциарное, наконец, криминологическое.
В них уделено значительное внимание виктимологическому аспекту. Например, представляя систему оперативно- розыскной безопасности, ученый рассматривает ее объект, в котором выделятся следующие лица: 1) виктимы , или виктимные личности , представляющую повышенный интерес для преступника; выделяет в них две группы признаков: а) личностные (неправовое, некритичное, аморальное поведение и т. п.); б) неличностные (должностное положение, политический статус и др.); 2) криминогенно-п рикосновенные лица , т. е. лица, вовлеченные в криминальную инфраструктуру, обслуживающие легальные и теневые потребности преступных сообществ; 3) лица, содействующие органам , осуществляющим оперативно-розыскную деятельность; 4) штатные сотрудники органов, осуществляющих оперативнорозыскную деятельность [8, с. 27–29].
Еще большей спецификой отличается такая система, как антикриминаль-ная VIP-безопасность , совсем не похожая на систему криминологической безопасности . Объектом «виктимологической» охраны выступают особо важные персоны; субъектами охраны определены специально подготовленные специалисты [8, с. 31].
Со сферой антикриминальной, или противопреступной безопасности в нашем представлении лишь в малой степени может быть соотнесена так называемая криминологическая (виктимологическая) безопасность .
Криминологическая составляющая безопасности — это, в нашем представлении, теоретическая разработка и практическая реализация идей, направленных на выявление, изучение и предупреждения условий криминогенности (виктимогенности), в которых усматривается возникновение либо отдаленно возможной, либо очевидно реальной криминальной опасности.
Возможность наступления вполне вероятных в той или иной степени угроз диктует необходимость, помимо криминологических мер, обращаться к иным, в особенности уголовно-превентивным и в целом правоохранительным мерам, которые непосредственно направлены на обеспечение противопреступной безопасности, т. е. мерам охраны, переходящей в защиту (самозащиту, или самооборону), мерам, обеспечивающим предотвращение, пресечения преступного посягательства, или виктимизацию.
Однако, несмотря на существенные различия, обусловленные спецификой средств отраслей права уголовно-правового блока (по объекту, методам и субъекту) обеспечения, противопреступная безопасность в итоге может быть определена как состояние внутреннего мира личности и условий ее окружения, которое вселяет уверенность в отсутствии криминальных угроз . А такое состояние может быть сформировано только систематизированными (политикой) усилиями прежде всего государства и общества в лице его специальных институтов, в том числе и защищающих права жертвы — домашнего насилия, коррупции, пыток…
Преступно-виктимные связи
Для всех очевидно, что данная система обречена на ответное противодействие криминальной системы. Точнее, следует говорить о взаимодействии этих систем, или взаимных действиях в отношении друг друга, одним из которых и выступает противодействия . Другой вид взаимодействия — сотрудничество . Оно осуществляется как на правовой основе (например, сотрудничество со следствием), так и на не правовой и даже противоправной (пример: коррупционная сделка). В этом взаимодействии, к сожалению, используется как право, так и неправо (по Гегелю). И проблема виктимности здесь заявляет о себе со всей остротой.
Остроту придает то обстоятельство, что, как известно, сама система (виктимо-логического, антикриминального) противодействия преступности содержит в себе немалый общественно опасный потенциал «неправа», который используется как право силы (« силовик » — выразительный термин) в принуждении людей к признаниям того, чего они не совершали, в фальсификации доказательств. Принуждаемые же лишены ответить тем же. Больше того, всякая попытка защитить себя оборачивается для них «неповиновением», «оказанием сопротивления».
Сегодня законодатели рассматривают несколько проектов так называемого «пыточного» законопроекта в защиту жертв правоприменения. Что интересно, одни авторы проекта категорически настроены против сложившейся, по сути, инквизиторской практики силовиков. По их убеждению, «необходимо установить уголовную ответственность за применение пытки в качестве самостоятельного состава преступления и рассматривать ее как тяжкое преступление»1.
Другой проект демонстрирует снисходительное отношение к «праву силы»:
предусматривает лишь усиление наказания по ст. 302 УК РФ за «принуждение подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля к даче показаний… путем применения угроз, шантажа или иных незаконных действий…», а также некоторые изменения в других составах, но без внесения в УК РФ отдельной статьи о пытках, на чем продолжают настаивать правозащитники 2 .
Человек, подозреваемый (обращаемый в подозреваемые) в совершении преступления, оказывается еще и жертвой преступного насилия. Но для кого-то это насилие представляется справедливым по отношению к «противнику», в котором видится преступник и который, по убеждению «силовика», понимает только язык силы, т. е. точно так, как и сам такого рода «силовик».
Но встречаются и другие ситуации, в которых возникают более сложные и менее заметные «преступно-виктимные» связи.
Например, как рассматривать «вынужденного» взяткодателя (жертву вымогателя) или, наоборот, взяткополучателя, не нашедшего в себе сил устоять перед искушением и предательскими страстями, подстрекательскими действиями, а то и угрозами (предлагается даже подумать об «обстоятельствах непреодолимой силы»)? В подобной ситуации видится преступник и жертва в одном лице, или «криминализированная жертва» [9, с. 77]. Между этими субъектами, как мы уже упоминали, возникают сложные «преступно-виктимные» уголовно-правовые отношения.
В связи с этим вызывает интерес статья «Жертва и преступник — партнеры по преступлению?», опубликованная в общественной газете для семейного чтения. Автор анализирует роль жертвы (потерпевшего) в механизме преступления и обращает внимание на следующие проявления поведения потерпевшего: он может инициировать или укрепить намерение преступника совершить преступление; изменить мотивацию, «переключив» деятельность преступника на более общественно опасные способы достижения результата; облегчить их наступление; может спровоцировать виновного1 и т. п.
Проблема «криминогенной», а то и «преступной» жертвы» вот уже чуть более 50 лет активно обсуждается в печати. Сформировалась точка зрения, в которой вина за преступление возлагается на его жертву. Американский психолог Уильям Райман ввел в научный оборот термин «обвинение жертвы» ( victim blaming ), употребив его в своей одноименной книге, в которой изложил проблему обвинения жертвы как идеологию [10].
И вообще в криминологической терми-нолексике употребляемый термин «жертва преступления» некорректный , ибо лишен криминологического признака причинности. Это по сущности уголовно-правовая категория, в которой выражена так называемая причинная связь (в уголовном праве). Но ни о какой причинности речь не идет. На самом деле — это «всего лишь» функциональная связь, которая устанавливается между деянием и последствиями в виде причиненного субъекту физического, имущественного, морального вреда. Данная «причинная» связь служит лишь одним из критериев юридической оценки характера и степени общественной опасности (криминализации), или юридической стороны преступления как социально-правового явления. Кстати, в этом усматривается сущность уголовного права вообще, т. е. в оценке Ф. Листа, как « совокупность правовых норм, посредством которых государство с известными фактическими отношениями — преступным деянием — связывает юридические последствия — наказания [11, с. 1].
Хотя, вместе с этим Лист отмечал и предупредительную функцию уголовного наказания, его своеобразную силу, которая проявляется в воздействии на общество, преступника, а «равно на потерпевшего, предоставляя ему сверх того удовлетворение, что направленное против него противоправное нападение не остается неотмщенным» [11, с. 70].
Криминологический же интерес здесь заключается в установлении и изучении сложного механизма взаимодействия двух субъектов уголовно-правовых отношений, в которых бывает не так просто определить истинную причинность в субъективных и объективных проявлениях криминализации и виктимизации.
Заключение
Итак, систематизируя сказанное, сформулируем основные положения.
Криминальная виктимология традиционно определяется в частности как «учение о жертве (выделено нами — авт .), раздел криминологии, изучающий поведение потерпевших, роль в причинном объяснении преступного поведения и в ситуации, в которой она осуществляется»2.
Но нам импонирует другой вариант определения: «Криминологическая вик-тимология — это учение о закономерностях возникновения, существования и развития виктимности (выделено нами — авт .) — вероятности определенных лиц и групп пострадать от общественно опасных посягательств; поведении жертв преступлений, их личностных особенностях; методах защиты граждан от криминальных угроз»3.
Как видим, термины разные, а сущность одна — криминологическая. Принципиальную разницу мы усматриваем в предмете исследования: в первом случае — это жертва , или носитель виктимности; во втором — виктимность , т. е. вероятность определенных лиц и групп пострадать от общественно опасного посягательства.
Виктимность (лат. victima – жертва) традиционно определяется как некое привилегированное (для определенных людей, виктимов) субъективное свойство — предрасположенность, или повышенная вероятность, даже определенная способность (не каждому дано), предназначение (свыше) оказаться жертвой. Во всем этом выражена какая-то обреченность. Но у многих людей ничего подобного может и не наблюдаться. Просто люди в определенной ситуации могли быть лишены возможности, способности уберечься от опасности, защитить себя или кого-то от преступного посягательства. К сожалению, никто из нас не застрахован от этого. Например, от «виктимогенной миссии» обстоятельств (соответствующей ситуации), непредсказуемой или юридически смоделированной инверсии ролей в криминальной ситуации, юридического манипулирования в фальсификации документов, состязании обвинения и защиты и т. п. Именно в руках манипулятора и оказывается «закон что дышло…». Как повернется к преступнику, жертве, так и вышло.
Вспомним проблемные ситуации, связанные с необходимой обороной, нарушением неприкосновенности жилища, изнасилованием, пытками, «криминальным заражением» жертв (вскипающих чувством мести к своим обидчикам) или обсуждаемую криминалистами, криминологами проблему допущения вреда с согласия лица или по его просьбе, и т. п.
Виктимность — сложное явление, которое, с одной стороны , следует рассматривать (по Ф. Листу) с естественно-исторической точки зрения (неспособности избежать преступного посягательства, неумения предотвратить таковое, некритичность в оценке отношений и т. п.), с другой стороны , — исходя из субъектизированной технико-юридической оценки, или (политически, коррупционно) выгодного «клеймения» (вспомним теорию стигмы Ф. Танненбу-ма) избираемой «жертвы»1.
Таким образом, виктимность можем представить как динамично-статический феноменом, т. е., во-первых, процесс («формирования виктимности», или виктимизацию), в итоге наделяющий человека (заслуживающего либо не заслуживающего того) соответствующим качественным признаком либо признаком-штампом — виктимностью.
Виктимность аналогична полярному свойству деяния преступности и также может рассматриваться в динамике — в соответствии с этапами развития (стадий) преступления. Как молния бьет в самый ближайший (высокий) предмет, устремляясь по пути наименьшего сопротивления, так и виктимность (как беспомощность перед опасностью) поражает, или «парализует» того, кто наиболее к этому предрасположен, наименее от этого защищен или вообще оказался ближе к той самой «вик-тимогенной миссии» обстоятельств, перед фактором случайности.
Итак, предметом криминальной вик-тимологии предлагается рассматривать виктимность как переходчивое свойство взаимодействующих субъектов уголовно-правовых отношений.
Соответственно и криминальная викти-мология может быть определена как теория, изучающая виктимность уголовно-правовых отношений в целях выяснения ее причинности, влияния на криминализацию деяния , а также возможности предупреждения вик-тимного поведения .
Междисциплинарный характер настоящей теории очевиден: уголовно-правовые отношения рассматриваются в соответствии с предметом исследования дифференцированно, с учетом неоднозначного («естественно-исторического» и «технико-юридического») генезиса виктимности, а также уголовно-отраслевых особенностей ее юридической оценки , в которой неизбежно участие так называемых сопутствующих научных дисциплин — экспертологии (в том числе криминологической), оперативно-розыскной деятельности, юридической (криминальной, виктимологической) психологии.
Главное предназначение , или функция («цель» как ожидаемый результат некорректно употреблять относительно теории, ибо достигнутый результат делает процесс познания ненужным) рассматриваемой теории заложена в ее определении: разработка, совершенствование научно-практического инструментария исследования природы, закономерностей виктимности как источника угрозы противопреступной безопасности и систематизации знаний, открывающих возможности виктимологиче-ской превенции.
Настоящие наброски-размышления предполагают ответные, вдумчивые, конструктивно-критические суждения. Именно в этом «дискуссионном русле» научного познания и набирает силу инновационная мысль. Будем надеяться на это.
Список литературы Криминальная виктимология как междисциплинарная превентивная теория
- Клейменов М. П., Артемов А. В. Предвидение криминологической безопасности // Вестник Омского университета. Серия: Право. 2004. № 1. С. 113-115.
- Crimen // Реальный словарь классических древностей по Любкеру. С.-Петербург, 1885. 1552 с.
- Ривман Д. В. Криминальная виктимология. Санкт-Петербург : Питер, 2002. 304 с.
- Лебедев С. А. Философия науки : учеб. пособие для магистров. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Юрайт, 2015. 296 с.
- Епихин А. Ю. Обеспечение безопасности личности в уголовном судопроизводстве. Санкт-Петербург : Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. 331 с.
- Хупутдинова Ю. Р., Егоров О. Н. Пенитенциарная виктимизация осужденных // Виктимология. 2017. № 3 (13). С. 36-41.
- Репакова О. Н. Обеспечение виктимологической безопасности сотрудников уголовно-исполнительной системы от криминальных посягательств осужденных // Виктимология. 2014. № 2 (2). С. 41-45.
- Горшенков Г. Г. Антикриминальная безопасность личности : монография. Нижний Новгород : Изд-во Волго-Вятской академии гос. службы, 2006. 294 с.
- Горшенков Г. Г. Личность перед опасностью криминальной угрозы : монография. Нижний Новгород, 2006. 108 с.
- William R. Blaming the Victim. Pantheon Books, 1971. 299 р.
- Лист Ф. Учебник уголовного права. Общая часть. Разрешенный автором перевод с 12-го переработанного издания Ф. Ельяшевич. С предисловием автора и М. В. Духовского. Москва : Товарищество типографии А. В. Мамонтова, 1903. 333 с.
- Tannenbaum F. Crime and the Community. N.Y., 1938. 487 p.