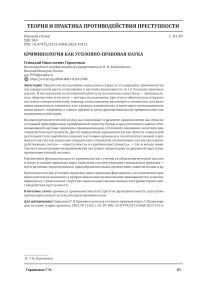Криминология как уголовно-правовая наука
Автор: Горшенков Г. Н.
Журнал: Правопорядок: история, теория, практика @legal-order
Рубрика: Теория и практика противодействия преступности
Статья в выпуске: 1 (36), 2023 года.
Бесплатный доступ
Предметом исследования определены сущность и содержание криминологии как юридической науки, относящейся к научной специальности «5.1.4. Уголовно-правовые науки». В методологии выполненной работы использованы известные — универсальные, общенаучные и частные — методы исследования; при этом особенная роль отведена системно-синергетическому подходу, позволившему рассмотреть множество составляющих предметных элементов в их сложных взаимосвязях и некотором «инновационном осмыслении», например, в оценке предмета, цели, функциональности криминологии как нормативистской науки. Изложен ретрологический взгляд на становление и развитие криминологии как отрасли уголовной юриспруденции, приверженной единству буквы и духа уголовного закона, обосновывающей научные принципы криминализации, уголовного наказания, политики противодействия преступности. Дается определение криминологии как области социальной деятельности по выработке социолого-уголовно-правовых и политических знаний о криминале как системе социально-юридических отношений, возникающих как внутри взаимодействующих систем — «преступность» и «противопреступность», — так и между ними. Соответственно предметом криминологии выступают закономерности двуединой (преступно-противопреступной) системы. Рассмотрена функциональность криминологии с учетом ее общетеоретической миссии в блоке уголовно-правовых наук; выделены соответствующие специальные функции — интегративная, концептуальная, правообразовательная, превентивно-защитительная и др. Криминология как уголовно-правовая наука призвана формировать ассоциативное криминологическое мышление в профессиональном правосознании криминалистов и умение обращаться с уникальным теоретико-прикладным превентивным инструментарием противодействия преступности.
Криминал, криминологическая стратегия, функциональность, преступно-противопреступная система, большая криминология
Короткий адрес: https://sciup.org/14125921
IDR: 14125921 | УДК: 343 | DOI: 10.47475/2311-696X-2023-10111
Текст научной статьи Криминология как уголовно-правовая наука
©
Именно уголовно-правовая . То есть относящаяся к уголовно-правовой семье как равноправна яее дочь (а не падчерица, т. е. механически, или формально включенная в данный семейный круг), наряду с такими же дочерними отраслями, как материальное, процессуальное, исполнительное право, их неразлучные спутницы: криминалистика, оперативнорозыскная деятельность, судебная экспер-тология1. С последней представляется вполне уместным поставить рядом криминологическую экспертологию как весьма перспективную частную теорию и вид криминологической деятельности .
Не касаюсь всевозможных взглядов на то, какое значение придается слову «криминология», его терминологической роли, и кто что думает по этому поводу. Нас, теоретиков много (и это хорошо). У каждого, имеются индивидуальные особенности мировосприятия и его концептуальное выражение. Одни рассматривают феномен «криминология» исключительно в юридическом аспекте; другие — в социологическом; третьи — рассматривают данную науку как комплексную; четвертые — вообще «оставляют» от криминологии лишь «оболочку» (название), собирая под соответствующую «терминологическую крышу» мультидисциплинарное (от лат. multum — много) содержание.
Как отмечают Ю. Д. Блувштейн и А. В. Добрынин, «позитивное уголовное право интерпретируется нормативистской криминологией как отражение естественного права в уголовном законодательстве данного государства. Это отражение представляет собой более или менее адекватную проекцию» [1, с. 10].
Уголовный закон — это, главным образом, вынужденная реакция на преступление . Криминализируются именно те деяния, которые заслуживают того, «будучи сами по себе злом, “на самом деле” являются преступлениями» ( malainse [1], т. е. плохое само по себе — авт .).
Основное содержание
Ретрологический аспект исследования . Современную криминологию также нахожу как вынужденную реакцию научной мысли на криминальное зло, внутреннее побуждение к его осмыслению, которое получает начало и развитие именно на юридической почве . Так, в условиях Нового времени криминологические идеи были выражены главным образом в философско-правовом произведении Ш. Л. Монтескье «О духе законов» (1748), но несравнимо ярко и доказательно раскрыты в историческом произведении Ч. Бекка-рия (считающего себя учеником Монтескье) «О преступлениях и наказаниях» (1764).
В трудах этих мыслителей сформулированы, по сути, основные идеи, которые и определяли криминологическую основу юридического учения (классической школы уголовного права) о преступлении и наказании . Произведение Ч. Беккария воспринимается как свод основополагающих криминолого-политических положений, выстраивающих не только криминологическую стратегию политического осмысления противодействия преступности, но и выступали мощной просветительской силой, инициирующей полномасштабную уголовную реформу.
Ученый-юрист Ф. М. Решетников, исследовавший творческий путь Ч. Беккария, высказал убеждение, что этот выдающийся итальянский просветитель и гуманист «должен рассматриваться не как основоположник классической школы уголовного права, а как центральная фигура самостоятельного , предшествующего этой школе просветительно-гуманистического (прогуманистического) направления в буржуазном уголовном праве » [2, с. 8].
А это направление и есть криминологическое. Например, американский ученый В. Фокс прямо утверждает, что «начало криминологии положила работа Беккариа» [2, с. 10]. И это очевидно.
Как известно, сторонники классической школы уголовного права исследовали преступление односторонне, т. е. акцентировали внимание на его внешней (как сейчас мы говорим, объективной) стороне, в которой доминирует деяние. Не реализованная криминалистами-классиками идея изучения внутренней (субъективной) стороны преступления получила развитие в исследованиях ученых другого, позитивистского направления, в котором заявила о себе новая, антрополого-социологическая школа во главе с Ч. Ломброзо и впоследствии с его единомышленниками социологом и криминологом Э. Ферри, предложившим концепцию уголовной социологии, включавшей в себя все отрасли знания о преступлении, а затем «итальянским юристом, экспертом в области криминологии» Гарофало1, сосредоточившимся на разработке уголовно-правовых и процессуальных положений антропологической школы, которые он изложил в знаменитой книге под названием «Криминология».
Здесь следует учесть то важное обстоятельство, что лейтмотив уголовной социологии составляли положения юридической науки о преступлении и наказании, опирающуюся на криминальную антропологию, психологию, уголовную статистику, уголовное право, тюрьмоведение [3, с. 51]. Размышляя над преобразованием науки о преступлении и не допуская мысли об искусственном разделении находящихся в органическом единстве уголовного права и уголовной социологии, Э. Ферри писал: «Подобно тому, как нелепо было бы отделять изучение индивидуальных факторов преступления от факторов общественных, так нелепо и стараться отделить изучение социальной природы преступления от его юридической стороны» [3, с. 642].
Не будем забывать, что в развитии юридического учения о преступлении активно разрабатывалось новое направление — уголовная политика. К ней Ферри относился весьма сдержанно, однако, в практическом аспекте допускал применение её как «искусства, с помощью которого законодатели низводят правила уголовной науки с небес абстракции к земной действительности» [3, с. 650].
Так или иначе, в концепции Э. Ферри определялось условное триединство учения о преступлении («уголовная социология»), в котором предполагалось сочетание таких противоположностей (в лице отраслей знания), как уголовное право, криминология и политика. Такое видение общей науки о преступлении и наказании имели Ф. Лист, А. А. Пионтковский, М. П. Чубинский и др.
Развитие криминологической отрасли, особенно социологического направления в уголовной теории стимулировало реформаторские идеи. Ведущая роль в этом отводится русскому юристу М. В. Духовскому, о котором профессор С. С. Остроумов писал так: «Именно его можно с полным основанием считать первым как в России, так и на Западе, заложившим основы социологического направления в уголовном праве и явившимся одновременно зачинателем новой науки — криминологии» [4, с. 2–4]. Духовской считал заблуждением видеть в уголовном праве науку, которая выводит свои определения из одного лишь «абстрактного разума», не изучая действительную жизнь. Эта наука должна изучать преступление как явление в обществе и его причины, а затем указывать «средства для его искоренения». Эти мысли он высказал в 1872 году в своей знаменитой лекции «Задачи науки уголовного права».
Российский правовед А. А. Пионтковский так определял общую ( трехотраслевую ) науку уголовного права: «Наука, занимающаяся изучением преступной деятельности, раскрытием естественных законов, обусловливающих собою эту деятельность, и изучением и установлением средств и способов борьбы с этой деятельностью» [5, с. 6].
Исходя из очевидной общности указанных отраслей и учитывая современные научные течения в учении о криминале, А. А. Пионтковский считал целесообразным не только соединение этих доктрин в общую науку, но и, кроме того, объединение в ней всех прочих «родственных» течений. Он приводит в поддержку своего утверждения аналогичную позицию Ферри, Гарро, Листа и других криминалистов. В концепции учёного виделась перспектива формирования новой, родовой науки — будет ли она названа «уголовным правом», «криминологией» или иначе.
Исследование общетеоретической сущности современной криминологии . Сегодня для уголовно-правовых наук, объединенных в одну «семью» новой научной специальности, это характерно и чрезвычайно важно. Примечательно, что профессор Ю. М. Антонян назвал криминологию в таком статусе « Большой криминологией» [6, с. 14]. Определение «большая» несет в себе смыл интегративной функциональности криминологии не только в национальной , но и в международной уголовноправовой системах юриспруденции и соответствующих практиках, подчиненных политике противодействия преступности.
В идее «большой криминологии» находит выражение стратегический характер науки, что нашло отражение в одном из проектов паспорта научной специальности «5.1.4. Уголовно-правовые науки» статус криминологии определен основными положениями относительно теория науки и ее предмета. Отдельно выделена «Стратегия применения специальных мер (уголовно-правовых, уголовно-процессуальных, криминалистических, оперативно-розыскных, уголовно-исполнительных, криминологических) в целях выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений»1.
В данном контексте (криминологическая) стратегия представляется как концепция или определенная система взглядов на понимание предупредительной сущности противодействия преступности, организация и выстраивание долговременной деятельности по профилактике, предупреждению преступлений, а также реагированию на преступления, прежде всего правоохранительными средствами в целях минимизации преступности и причиняемого ею вреда .
С правоохранительными, или специальными средствами связано специальное противодействия преступности. И здесь уместно привести высказывание американского криминолога Дж. Р. Уилсона о том, что «в этом криминология смыкается с направлением, которое обычно называют правоведением» [7, с. 245].
Однако не следует понимать упрощенно уголовно-правовые, уголовно-процессуальные, оперативно-розыскные и другие меры как элементарный набор специальных средств. Специальные меры нужно рассматривать как специальные организационно-правовые механизмы, технологии их применения, которое под силу специалистам , от профессионализма которых прежде всего и зависит функционирование этих механизмов. А это уже другой аспект — профессионального обучения. Еще С. К. Гогель, оценивая известное произведение Ч. Беккария, считал, «что прочтение его для каждого юриста, имеющего претензию быть образованным, совершенно обязательно …» [8, с. 64].
Таким образом, криминологическая идея предупреждения преступлений, «вышедшая» из уголовно-правового учения о преступлении и наказании, получила развитие в науке, реализации в многогранной (государственной и общественной) деятельности по борьбе с преступностью, в том числе, и особенно — через систему юридического профессионального образования.
Складывается «дифференцированное» представление о «большой криминологии» как двуединой науке, а именно криминологии: а) как научном инструменте познания преступности и возможностей ее минимизации; б) как технологии применения данного инструмента в противодействии преступности, особенно путем преобразования социально-юридических отношений, в той или иной мере детерминирующих преступность.
И здесь открываются перспективы криминологической стратегии, в содержании которой должно быть востребовано искусство программирования (планирования), основанное: а) на криминологических оценках прежде всего объекта воздействия и соответствующих механизмов (путем криминологического мониторинга, криминологической экспертизы и т. п.); б) на криминологических прогнозах , и в) на соответствующих предложениях , рекомендациях .
В данной структуре преступность как основной системообразующий фактор выступает главным предметным феноменом: с одной стороны , преступность исследуется как социально-юридическое явление, с другой, — изучаются возможности противодействия преступности.
Первый аспект , точнее можно определить как стратегическое направление исследования — преступностии назвать его не иначе как «преступностиведение», термин, введенные в качестве «русифицированного» синонима «криминологии» Д. А. Шестаковым [9].
Второй , «производный» от преступности аспект очевиден как противодействие преступности . В отличие от традиционного «предупреждения преступлений», термин «противодействие» объединяет собой предупредительное значение специальных (уголовно-правовых, -процессуальных, -исполнительных, криминалистических, оперативно-розыскных и иных) мер и выгодное , т. е. основанное на криминологических оценках, прогнозировании, программировании их применение.
В целом же криминология как нормати-вистская, т. е. обоснованная системой взаимосвязанных и взаимодействующих прежде всего уголовно-правовых норм), может быть определена так: область социальной деятельности направленной на выработку социолого-уголовно-правовых и политических знаний о криминале как системе социальноюридических отношений, возникающих в связи с реагированием на преступность, познанием ее закономерностей, методов предупредительного воздействия на них и реализации этих знаний в специальном (основанном на правовом принуждении) предупреждении преступлений, минимизации причиняемого ими вреда, а также противодействия преступности в целом.
При этом следует обратить внимание на традиционно узкое осмысление латинского слова crimen — «криминология как наука о преступлении». Нет, это наука именно о криминале. «Криминал» ( crimen ) имеет несколько значений: «преступление», «преступник», «обвинение», «обвиняемый»; «вина», «вред»; «предмет разбирательства», «уголовное судопроизводство» и др. Таким образом, в определении выражен предмет криминологии — закономерности двуединой (преступно-противопреступной) системы, т. е., с одной стороны , продуцирующих, составляющих преступность, и, с другой стороны, противодействующих преступности, а также свойства и возможности методов получения и систематизации этих знаний, с учетом исторического опыта .
В отношении цели криминологии также представляется уйти от традиционного «прямолинейного» употребления данного слова в качестве термина. «Цель» принято воспринимать как предвкушаемый результат исследования, к которому стремился ученый. Результат может рассматриваться по отношению к каким-либо конечным действиям, видам деятельности, их этапам.
Наука же определяется как область человеческой деятельности, функцией которой является производство и систематизация объективных знаний о действительности [10, с. 413]. Цель науки носит абстрактный характер, или представление о том идеале, достижение которого предполагает определенная, в том числе и научная деятельность1. Такая цель недостижима, но она служит стимулом для осуществления определенной деятельности (систематизации знаний)2. Как, например, цель Национальной стратегии противодействия коррупции в России — «искоренение причин и условий, порождающих коррупцию в российском обществе»
(п. 5 Национальной стратегии противодействия коррупции)1.
Таким образом, «цель» в данном контексте осмысливается как целесообразность , т. е. сообразно чему происходит движение научной мысли, на что оно направлено и какой характер имеет. Во всем этом находит выражение функциональность науки (функция, как известно, и есть выражение триединства — цели,направ-ления и характера деятельности).
И в этом случае цель уголовно-правовой науки криминологии может быть определена как последовательная систематизация и система знаний о предмете исследования (криминале), корректировка и выработка на их основе теоретических положений и практических рекомендаций, направленных на обеспечение эффективного функционирования противо-преступной системы в предупреждении преступлений и минимизации вреда, причиненного преступностью, а также положений, направленных на саморазвитие криминологии.
Логически возникает вопрос о функциональности криминологии в блоке уголовно-правовых наук . Как известно, функциональность в самом общем виде определяется как набор возможностей, или функций какой-либо системы2. И в данном контексте необходимо обратить внимание на специальный аспект функциональности криминологии. Ее специфика заключается в оптимизации возможностей уголовно-правовых наук, законодательств и соответствующих практик в предупредительном воздействии на преступность.
Представляется возможным выделить как минимум шесть специальных функций криминологии как составляющей блока уголовно-правовых дисциплин:
-
1) интегративная (от лат. integer — полный, целый) функция , сущность которой видится в том, чтобы вырабатывать в этом интегративном единстве свойство целостности как общего свойства для всех дисциплин уголовно-правового блока;
-
2) концептуальная функция как формирование определенной системы взглядов на какое-либо явление, скажем, цифровую) преступность, ее причинность, систему превентивных мер и т. п.;
-
3) правообразовательная функция , под которой подразумевается участие криминологии в правообразовательном творчестве, прежде всего в теоретическом и эмпирическом обосновании правообразовательных решений;
-
4) превентивно-защитительная функция , сущность которой заключается, с одной стороны, в предупреждение возникновения криминогенных (виктимогенных) ситуаций; с другой стороны, в защите от реальной угрозы преступных посягательств (реализация мер противопреступной безопасности);
-
5) оптимизирующая (лат. optimus — наилучший) функция , смыл которой можно выразить термином «криминологизация», т. е. освещение криминологическими знаниями прежде всего правового и организационно-управленческого обслуживания системы предупредительного воздействия, в особенности уголовно-правовых институтовна преступность;
-
6) политическая функция — обеспечивающая криминологическую основу искусства управления системой противодействия преступности.
Заключение
Рассматривая статус криминологии как общетеоретической наука в отношении дисциплин уголовно-правового блока, важно обратить внимание на своего рода «информационный оборот»: с одной стороны , каждая из отраслей данного цикла нуждается в криминологической информации; с другой стороны , сама криминология испытывает потребность в апробационных знаниях, которыми ее обеспечивают родственные отрасли.
Целесообразность криминологического изучения преступности как социальноюридического явления должна заключаться не только в традиционном открытии внутренних и внешних закономерностях, преступности как объекта предупредительного воздействия уголовно-правовых отраслей науки, законодательства, а также соответствующих практик, но и в осмыслении преступности как системообразующего фактора в сложных отношениях взаимодействия таких емких субъектов, как право и бесправие, и как системной угрозы национальной безопасности. Система противодействия преступности должна реагировать на свой объект не только адекватно, но и имея преимущество над ним. В связи с этими задачами в криминологии открывается перспектива систематизация относительно однопорядковых знаний (о преступности, причинности, предупредительном воздействии): криминология уголовного права; криминология уголовного судопроизводства; криминология уголовно-исполнительного права, или пенитенциарная криминология; политическая криминология.
Кроме того, по мере углубления познавательного процесса в определенные, недостаточно разработанные области изучаемого предмета науки (например, о видах преступности, особенностях сферы их совершения, специфики причинности), систематизируются знания в частных теориях как соответствующих теоретических положениях более низкого уровня (криминология закона, семейная криминология, криминология массовых коммуникаций, виктимологические теории и множество других) [11, с. 229].
Таковы краткие размышления о науке, призванной формировать ассоциативное криминологическое мышление в профессиональном правосознании криминалистов и умение обращаться с уникальным теоретико-прикладным превентивным инструментарием противодействия преступности.
Список литературы Криминология как уголовно-правовая наука
- Блувшейн Ю. Д., Добрынин А. В. Основания криминологии: опыт логико-философского исследования. Минск: Университетское, 1990. 208 с.
- Решетников Ф. М. Беккариа / отв. ред. П. С. Грацианский. Москва: Юридическая литература, 1987. 128 с.
- Ферри Э. Уголовная социология / сост. и предисл. В. С. Овчинского. Москва: ИНФРА-М, 2005. 658 с.
- Остроумов С. С. Преступность и её причины в дореволюционной России. Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1980. 132 с.
- Пионтковский А. А. Наука уголовного права. Ярославль: Типо-Литография Э. Г. Фальк, 1895. 24 с.
- Антонян Ю. М. Пенитенциарная криминология как научная дисциплина и отрасль криминологии // Пенитенциарная криминология: учебник / под ред. Ю. М. Антоняна, А. Я. Гришко, А. П. Фильченко. Рязань: Академия ФСИН России, 2009. 556 с.
- Уилсон Дж. Р. Слово «криминология»: филологическое исследование и определение // Актуальные проблемы экономики и права. 2016. Т. 10, № 3. С. 227–251.
- Гогель С. К. Курс уголовной политики в связи с уголовной социологией. С.-Петербург, 1910. 506 с.
- Шестаков Д. А. Теоретические положения преступностиведения в свете конституционных установлений Российской Федерации // Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции. 2016. № 9-2. С. 331–335.
- Наука // Философский энциклопедический словарь. Москва: Сов. Энциклопедия, 1983. 840 с.
- Клименко Н. И. Общие и частные криминалистические теории // Ученые записки Таврического национального университет им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». 2013. Т. 26, № 1. С. 226–232.