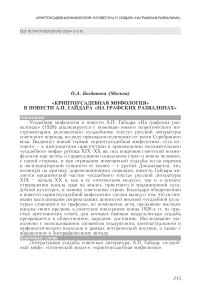"Криптоусадебная мифология" в повести А.П. Гайдара "На графских развалинах"
Автор: Богданова О.А.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 3 (70), 2024 года.
Бесплатный доступ
Усадебная мифология в повести А.П. Гайдара «На графских развалинах» (1928) анализируется с помощью нового теоретического инструментария, релевантного «усадебному тексту» русской литературы советского периода, по ряду признаков отличному от эпохи Серебряного века. Выдвинут новый термин «криптоусадебная мифология», суть которого в имплицитном присутствии в произведении положительного «усадебного мифа» рубежа XIX-XX вв. под покровом советской неомифологии как мечты о справедливом социальном строе и новом человеке, с одной стороны, и как отрицания помещичьей усадьбы из-за пороков и эксплуататорской сущности ее хозяев с другой. Доказывается, что, несмотря на критику дореволюционных порядков, повесть Гайдара является органической частью «усадебного текста» русской литературы XIX начала XX в. как в ее «готическом модусе», так и в аспекте утверждения идеала «рая на земле», присущего и традиционной «усадебной культуре», и новому советскому строю. Благодаря обнаружению в повести «криптоусадебной мифологии» сделан вывод о том, что истинными наследниками непреходящих ценностей вековой «усадебной культуры» становятся не графские, не помещичьи дети, предавшие высокие идеалы своих предков, а советские школьники конца 1920-х гг. из простых крестьянских семей, для которых бывшая владельческая усадьба превращается в общественное, народное достояние. Исследование выполнено с использованием элементов тезаурусного, контекстуального и мифопоэтического подходов в рамках исторической поэтики, а также с обращением к биографическому методу.
Литературная усадьба, советская литература, а.п. гайдар, «усадебный миф», «готический модус», «криптоусадебная мифология»
Короткий адрес: https://sciup.org/149146741
IDR: 149146741
Текст научной статьи "Криптоусадебная мифология" в повести А.П. Гайдара "На графских развалинах"
В современных литературно-усадебных исследованиях важную роль играет теоретико-методологическое направление. Его главная задача — создать по возможности полную и непротиворечивую систему терминов и категорий для изучения феноменов литературной усадьбы и дачи в разные исторические эпохи с XVIII по XXI в., которая могла бы устранить разнобой в понимании уже существующей терминологии и включить в себя новую, релевантную впервые привлекаемому материалу. В самом деле, соответствующие произведения 1920—1980-х гг., относящиеся к литературе СССР, никогда раньше не рассматривались в рамках «усадебного текста». Очевидно, что для их осмысления в аспекте усадебно-дачной топики и мифопоэтики настоятельно требуется новый научный язык, одну из единиц которого мы и хотим далее представить в практическом применении.
В послереволюционной советской действительности прежние владельческие усадьбы постепенно исчезали — как в результате физического разрушения (разорения, уничтожения в революционном порыве), так и в процессе переформатирования в общественные заведения: учреждения, школы, клубы, музеи, санатории, дома отдыха и проч. Поэтому теперь в знакомый нам «усадебный текст» XVIII — начала XX в., непосредственно обращенный к тематике традиционной русской усадьбы, стали вплетаться произведения, в которых усадьба как предмет изображения фактически отсутствует или присутствует в руинированно-переформа-тированном виде, внешне приобретая другие социокультурные функции. Думается, что те ментальные паттерны, которые напрямую не связаны ни с пребыванием в традиционной усадьбе, ни с личными воспоминаниями о ней автора или персонажа, могут быть выявлены, осознаны и обозначены с помощью новых терминов, релевантных тому особому качеству «усадебного текста» русской литературы, которое возникло и стало усиливаться с момента реально-эмпирического разрушения владельческих усадеб Серебряного века. Как показывают исследования, в нем отчетливо различаются художественные черты, которые можно обозначить новыми терминами «усадебный габитус» [см.: Богданова 2019, 11—12], «усадебность» [см.: Богданова 2024] и «криптоусадебная мифология». Остановимся на последнем.
Предварительно заметим, что мифология усадьбы не оставалась неизменной на протяжении XX в. Обращение к литературе советской эпохи показывает, что переформатированная усадьба зачастую наполняется здесь неомифами о творческом коллективном труде, о воспитании нового человека, о построении бесклассового общества и т.п. (в ряде текстов К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, А.С. Макаренко и др.), заслоняющими идиллически-элегический «усадебный миф» Серебряного века, восходящий к Золотому веку русской культуры (подробнее см.: [Богданова 2019, 16—18]). Одновременно в советской литературе складывался и односторонний отрицательный неомиф усадьбы как места эксплуатации человека человеком, «гнезда» насилия и разврата (в прозе Ф.И. Панферова, Г.И. Серебряковой, Г.И. Чулкова 1920—1930-х гг. и др.). При этом прежний положительный «усадебный миф» зачастую имплицитно присутствовал и пробивался к читателю сквозь более поздние напластования.
«Криптоусадебная мифология» — явление, пока совсем неизученное (кроме единственной статьи, где она была впервые кратко представлена [см.: Богданова 2023]). Она возникает в советский период вокруг переформатированных усадеб, внешне отделенных от пушкинского, онеги-но-ларинского ореола ретроспективного «усадебного мифа» Серебряного века и окруженных атмосферой новой советской мифологии, связанной, с одной стороны, с отвержением дворянско-буржуазного, «эксплуататорского» по отношению к людям и «хищнического» по отношению к окружающей природе усадебного прошлого, и с проективной утопией строительства «светлого будущего» и воспитания «нового человека» — с другой. «Криптоусадебная мифология» присутствует как в произведениях, где непосредственно изображается переформатированная усадьба (например, в «Повести о лесах» (1948) К.Г. Паустовского), так и там, где усадьба эмпирически отсутствует (например, в «Пушкинском доме» (1964—1971) А.Г. Битова и «Туманных аллеях» (2019) А.И. Слаповско-го).
Особая роль — у произведений детской литературы 1920—1950-х гг., на первый взгляд дезавуирующих «усадебный миф» Серебряного века и наделяющих изображение усадьбы мифологическими коннотаци- ями, связанными с новой, советской картиной мира. Таковы, например, известные повести А.П. Гайдара «На графских развалинах» (1928) и А.Н. Рыбакова «Бронзовая птица» (1956). В первой из них усадебное «сокровище» символически отторгается от прежних владельцев (формального наследника, графского сына, связавшегося с преступной бандой) в пользу подростков — представителей трудового народа, истинных наследников благородного этического кодекса «усадебной культуры». Прямо провозгласить этот тезис в период официального отказа от «эксплуататорского» усадебного наследия Гайдар не мог — вспомним ликвидацию первого Общества изучения русской усадьбы в 1930 г. и арест его председателя А.Н. Греча, а также общую переориентацию усадеб-музеев на классовое обличение «чуждого» советским идеалам дворянско-помещичьего строя: «В середине 1920-х гг. в государственной политике относительно музеев намечается резкий поворот в сторону идеологизации музейной работы. Полезность музеев оценивается с точки зрения их идеологической целесообразности, а не историко-культурной значимости. Музейная экспозиция должна была воспитывать будущих строителей социализма, прививать им основы классового сознания» [Малясова 2008, 77]. Поэтому неудивительно, что в этом произведении «усадебный миф» Серебряного века присутствует прикровенно, под слоем новой советской мифоидеологии строительства справедливой социальности и формирования советского человека. Возможно, просвечивающее в этой ранней повести сочувствие русской «усадебной культуре» стало причиной того, что в идеологически непримиримые 1930-е гг. Гайдар не решился включить ее в том своих избранных произведений [см.: Гайдар 1986, 445]. Как уже говорилось в прежней работе автора настоящей статьи, указанный палимпсест и является манифестацией «криптоусадебной мифологии» [см.: Богданова 2023, 232]. По сути тот же внутренний сюжет — в написанной почти на 30 лет позже повести Рыбакова «Бронзовая птица»: клад графов Карагаевых из личной собственности становится общенародным достоянием, а бывшая владельческая усадьба заселяется советскими пионерами. На той же неоромантической волне послевоенного интереса к дореволюционной культуре, к литературной усадьбе русской классики, режиссер В.Н. Скуйбин снял в 1958 г. по полузабытой к тому времени гайдаровской повести «На графских развалинах» одноименный кинофильм, до сих пор имеющий зрительский успех.
Остановимся на ней подробнее, предварительно отметив, что в литературоведении мы не обнаружили ни отдельных работ об этом произведении, ни каких-либо суждений об «усадебном тексте» в творчестве Гайдара. Таким образом, заявленный нами аспект художественного мира советского писателя практически впервые освещается в настоящей статье. Действие рассматриваемой повести происходит в конце 1920-х гг. в небольшом сельском местечке на юге России, через которое пролегает железная дорога и где находятся руины когда-то большой и богатой помещичьей усадьбы. Главными героями повести становятся три подростка 12-ти лет: местные крестьянские мальчики Яшка и Валька и пришлый беспризорник Дергач (Митя Ё лкин). Основной сюжет разворачивается вокруг заброшенной графской усадьбы.
Е.В. Глухова уже отметила плодотворность литературной готической традиции для «усадебного текста» русской литературы начиная с Н.М. Карамзина («Остров Борнгольм», 1794) и А.А. Бестужева-Мар-линского («Замок Венден», 1821) и заканчивая А.П. Чеховым («Черный монах», 1893) и Федором Сологубом («Творимая легенда», 1905—1912). Более того, по мнению исследовательницы, «элементы готического модуса усадебной прозы сохраняются в образе усадьбы писателей-эмигрантов, а в советский период наблюдается жанровая трансформация усадебной готики в детективное повествование» [Глухова 2020, 26], в частности в повести Рыбакова «Бронзовая птица». Добавим к этому примеру и повесть Гайдара.
В самом деле, считает Глухова, «при условии соседства в тексте нескольких характеристик можно говорить о том, что в нем реализуется готический нарратив: наличие специфического хронотопа; характерное вступление, отсылающее к средневековью; экзотичность места действия (замок, заброшенный дом, мрачное поместье); страшная тайна как сюжетообразующее событие; участие потусторонних сил в развитии сюжета; установка на достоверность; <_> мотив продажи души дьяволу; мотивы страха, ужаса» [Глухова 2020, 27]; а также рациональная мотивация таинственного сюжета. Практически все указанные черты обнаруживаются в повести «На графских развалинах». Во-первых, здесь представлен хронотоп разрушенной, насильственно разоренной, прошедшей через катастрофические испытания усадьбы. Кроме того, перифраз «надмогильный памятник старому режиму» [Гайдар 1973, 187] в глухом месте, вдалеке от дорог, над глубоким оврагом — отсылает к невозвратному, психологически отдаленному прошлому, хотя со времени революции и оставления усадьбы хозяевами прошло всего 10 лет. Также не подлежит сомнению экзотичность места действия: «Была уже ночь. Красной дугою выглядывал из-за леса край огромной луны. И, озаренные ее слабым сиянием, развалины графской усадьбы казались <_> величественным, крепко спящим замком» [Гайдар 1973, 216]. Особенно впечатляет зловещей необычностью «охотничий домик» в 7-ми верстах от усадьбы, где разыгрывается последний акт запутанного действия: «Выстроенный когда-то по прихоти графа вдали от проезжих дорог, на краю огромного болота, он оставался почти нетронутым и по сию пору <_> сложенный из валявшихся в изобилии глыб серого камня, <_> зарос[ший] сорной травою да сырым мхом. <_> Не заходили сюда и бабы за грибами, потому что росли здесь одни молочно-белые скрипицы да огненно-красные мухоморы» [Гайдар 1973, 238].
Сюжет повести Гайдара организован как раскрытие тройной тайны: первая — когда ребята до суда между деревенскими семьями Бабушкиных и Сурковых прячут в полуподвале главного усадебного дома собаку Волка, якобы задушившую трех кур, — дана в юмористическом ключе, вторая — социальная — передает драматизм судьбы загадочно-страшного для местных обитателей беспризорника Дергача; третья — настоящая, трагическая, обусловленная историческим переломом мирового масштаба, — связана с поиском опасными бандитами-убийцами клада, зарытого графом-помещиком под оранжерейной пальмой перед окончательным отъездом из усадьбы во время революции.
Хотя потусторонних сил в советской повести для детей быть не могло, тем не менее в описаниях усадьбы отчетливо различаются мистические нотки: «Уж какой странный и причудливый ночью замок! (Здесь и далее в цитатах курсив мой. — О.Б.) Огромные липы спокойными вершинами чуть-чуть не касаются луны. Серый камень развалин не везде отличишь от ночного тумана. А черный заросший пруд, в котором отражаются звезды, кажется глубокой пропастью с светлячками, рассыпанными по дну» [Гайдар 1973, 225]. Пусть и без лексических маркеров из символистского словаря, сходство с ночными пейзажами из откровенно мистических произведений известного писателя-символиста Г.И. Чулкова здесь очевидно. Так, герою-повествователю рассказа «Сестра» (1909) усадебный пруд казался «при звездном блеске серебристо-зеркальной чашей , торжественной и священной» [Чулков 1911, 209]. Другой ночью в его усадебном парке «луна стояла высоко в небе, и завороженные деревья , казалось, пели славу холодному свету нашей небесной спутницы. Над прудом висела непонятная серебряная сеть — должно быть, волокна тумана, осиянные месяцем» [Чулков 1911, 211].
Установка на достоверность реализуется у Гайдара благодаря натуралистическим деталям, жизнеподобным картинам деревенского быта Яшкиной семьи — показу огорода, двора, кухни, избы и т.п. Во взаимоотношениях матерого бандита Хряща, полностью лишенного человеческих черт, и примкнувшего к нему в корыстных целях младшего сына графа, бывшего владельца усадьбы, можно найти редуцированные признаки продажи души дьяволу: так, Хрящ явно доминирует в паре с молодым графом, отдавая тому приказания, браня его отца, сам же бывший благородный дворянин ведет себя как отпетый уголовник. Мотивы страха и ужаса постоянно сопровождают юных героев повести: Яшку и Вальку при встрече с Дергачом, самого Дергача при встрече с Хрящом в усадьбе, а затем в «охотничьем домике». Также присутствует и рациональная мотивация таинственного сюжета, причем на трех уровнях: загадочная пропажа кастрюли с борщом у матери Яшки — для корма собаке, спрятанной в разрушенной усадьбе; «разбойничья» природа Дергача — воровство еды — обусловлена тем, что мальчик во время недавнего голода в стране потерялся и, не зная адреса своих родителей, стал добычей бандитов-налетчиков, заставлявших его участвовать в грабежах; наконец, скрытный приезд выросшего графского сына в свою прежнюю усадьбу, ночные огни в окнах второго этажа, поиск старой фотокарточки с пальмой в оранжерее и проч. объясняются прагматичной жаждой наживы, стремлением заполучить в личное пользование спрятанный клад. Как видим, повесть Гайдара вполне вписывается в «готический модус русской усадебной прозы» XVIII — начала XX в. [Глухова 2020, 35].
Более того, от внимательного читателя повести не ускользнут и отчетливые черты «усадебного мифа» Серебряного века: по всему тексту разбросаны штрихи и детали, в совокупности составляющие привлекательный и вдохновляющий образ дореволюционного поместья. «Картинка — что снутри, то и снаружи, — свидетельствует бывший графский садовник Нефедыч, отец Яшки. — Одни оранжереи чего стоили. И чего там только не было — и орхидеи, и тюльпаны, и розы, и земляника к Рождеству^ Пальма даже была огромная, больше двух сажен. Специально с Кавказа, из-под Батума, выписали» [Гайдар 1973, 198]. Также дается описание уцелевших и руинированных частей усадебного дома, воссоздающих в воображении утраченное целое: рухнувшей колонны, каменной ограды, комнаты второго этажа с видом на речку и дорогу в село, балкона, кладовой-полуподвала с узкими окнами на пруд [см.: Гайдар 1973, 200—201], 60-ти комнат в главном доме, каждая со своим назначением (спальня, столовая, гостиная, танцевальная и т.п.) [см.: Гайдар 1973, 202—203]. Нефедыч объясняет бандиту Хрящу, выдавшему себя за ученого-исследователя, что усадьба была построена за 100 лет до него (т.е. в начале XIX в., а значит, в стиле «пушкинского» классицизма или ампира, в Серебряном веке возведенного «в ранг национального идеала» [см.: Нащокина 2007, 116]), оранжереи и парк были под его наблюдением как садовника [см.: Гайдар 1973, 227—228].
Немаловажно, что Хрящ и графский сын выдают себя за членов «какого-то общества по изучению русской старины», т.е. будто бы исследуют «разные старые постройки, усадьбы и церкви. Какой архитектор сработал, в каком году да в каком стиле. И вот заинтересовались они графским имением» [Гайдар 1973, 227]. Очевидно, что автор имеет в виду первое Общество изучения русской усадьбы (ОИРУ), основанное в 1922 г. и закрытое в 1930 г. [подробнее см.: Злочевский 2011], и представляет его с положительной коннотацией. Так, мальчик Яшка корит себя за страх перед увиденными ночью в усадьбе незнакомцами: «Ээх, и ду-ураки мы! <.> Эх, и трусы! И чего испугались? Мирные люди усадьбу обследуют. Да еще добрые, отцу пять рублей обещались. Нам бы вместо чем бежать, надо бы наверх к ним выбраться. Может быть, пособили бы в чем-нибудь <...>» [Гайдар 1973, 228]. В свете таких высказываний неудивительной кажется и несобственно-прямая речь юного героя в начале повести, по-видимому передающая общее сельское мнение: «В революцию граф с семьей убежал. Усадьбу старинную мужики сгоряча разграбили. Невдомек было, видно, что усадьба-mo пригодиться может . В суматохе кто-то то ли нарочно, то ли нечаянно запалил ее. И выгорело у каменной усадьбы все деревянное нутро. Одни только стены сейчас торчат <...>» [Гайдар 1973, 186].
Но и в таком виде усадьба представляет несомненную ценность, символом которой становится зарытый под оранжерейной пальмой клад — несгораемый ящик, «где много всякого добра было» [Гайдар 1973, 255]. Именно за ним охотятся бандит Хрящ и выросший графский сын. Думается, не случайно содержимое клада не конкретизировано автором повести — для людей из народа, для новой советской власти это не поддающееся измерению, по сути нематериальное богатство: как можно посчитать духовную значимость «усадебной культуры»? Еще в начале повести было отмечено, что физическое имущество усадьбы крестьяне уничтожили «сгоряча» — тем острее ощущается необходимость сохранить незримое культурное наследие, разлитое в воспоминаниях, традициях, книгах, архитектурных и садово-парковых очертаниях, уцелевших артефактах. В итоге захватывающих сюжетных перипетий клад конфискован у грабителей и символическое усадебное «сокровище» становится достоянием юного советского поколения — недаром оказавшийся в больнице после спасения от бандитов Дергач впервые ощущает окружающую обстановку как рай: «Было спокойно, тепло и тихо, а главное — все кругом такое белое, чистое», врач и медсестра удивительно добры к нему, ласковы и заботливы [см.: Гайдар 1973, 254—255]. Если вспомнить, что традиционная русская усадьба осознанно устраивалась как «рай на земле», то преемственность очевидна. Ведь «представления о русской усадьбе уже начиная с XVIII в. постоянно балансируют между смежными понятиями Золотого века, рая-Эдема-Элизиума, Аркадии <...>. Особая роль усадьбы в это время связывается с тем, что среди порока, в целом господствующего в обществе, она мыслится как спасительный оазис, некое прибежище от земных невзгод» [Дмитриева, Купцова 2008, 150—151]. Таким образом, пленительный «усадебный миф» Серебряного века отнюдь не отрицается в новой советской действительности, он становится ее субстратом, хотя открыто и не декларируется.
Симптоматично, что в повести Гайдара нет прямых указаний на социальное неравенство в дореволюционной усадьбе, на классовое угнетение и несправедливость (наоборот, садовник Нефедыч практически на равных беседует с графом об устройстве оранжереи, высадке пальмы на грунт, а также пользуется щедростью владельца), однако младший графский сын по сути предает высокие идеалы «усадебной культуры»: честь, достоинство, милосердие, самоотверженное служение Отечеству, обостренное чувство прекрасного, — связавшись с бандитом Хрящом и очевидно собираясь увезти усадебное «сокровище» за границу. Интересно, что молодому графу в революционный год разорения усадьбы было 12 лет, как и главным героям повести на момент происходящего в ней действия. Эта деталь, по-видимому, не случайна и призывает к контрастному сопоставлению графского сына и советских детей, которые оказываются истинными наследниками усадебных ценностей: Яшка и Дергач, рискуя жизнью, не позволяют налетчикам вывезти национальное достояние за рубеж, воспользоваться им сугубо в личных целях. Молодой же граф в изображении советского писателя становится не только бандитом-грабителем, но и предателем родины, и подлым убийцей, пытавшимся ради денег застрелить в «охотничьем домике» ребенка, мальчика Дергача, которого грубо назвал «змеенышем» [Гайдар 1973, 242].
В заключение отметим и биографический факт. Будучи убежденным сторонником и защитником социалистических идеалов в сознательном возрасте, тем не менее как личность Аркадий Петрович Гайдар (1904—1941) во многом сформировался в дореволюционное время и успел приобщиться к культурным ценностям своей матери, вышедшей из старинной дворянской семьи Сальковых. «По отцовской линии Голиковы (Настоящая фамилия писателя. — О.Б.) происходили из крестьян: пахали землю, служили по четверть века в солдатах, занимались популярным, искусным, но малоприбыльным щепным промыслом. Мать будущего писателя, Наталья Аркадьевна Салькова, была из дворянской семьи. Первый упоминаемый в русских летописях предок ее был Захарий Сальков. Первые сведения о нем относятся к 1600 году. Жил он в городе Парфеньеве, что в Костромской губернии, и отвечал за сохранность и боеспособность городской крепости. Проявив храбрость и воинское мастерство во время осады Парфеньева, Захарий Сальков был пожалован поместьем, чуть позже ему была вручена грамота о даровании дворянского звания» [Камов 2011, 83]. Более того, Сальковы находились в дальнем родстве с великим поэтом М.Ю. Лермонтовым, боевым офицером и одним из ярких создателей «усадебного текста» русской литературы. Б.Н. Камов обоснованно предполагает, что будущий советский писатель с детства знал о своей кровной принадлежности к отечественной «усадебной культуре» [см.: Камов 2011, 84]. Добавим, что в честь деда по матери ему было дано изысканное «усадебное» имя: «В русской литературе тема усадебной Аркадии (усадебного рая) является, можно сказать, почти константой, начиная с середины XVIII века и вплоть до середины XX века, уже в эмигрантской прозе» [Дмитриева, Купцова 2008, 156]. Можно обнаружить целую галерею героев-Аркадиев, утверждающих или корректирующих усадебный идеал: Аркадий Кирсанов у И.С. Тургенева («Отцы и дети», 1862), Аркадий Счастливцев у А.Н. Островского («Лес», 1870), Аркадий Долгорукий у Ф.М. Достоевского («Подросток», 1875), Анна и Степан Аркадьевичи у Л.Н. Толстого («Анна Каренина», 1877), крепостной парикмахер-виртуоз Аркадий Ильин у Н.С. Лескова («Тупейный художник», 1883), Ирина Аркадина у А.П. Чехова («Чайка», 1896) и т.д.
Итак, в повести Гайдара с помощью «криптоусадебной мифологии» отражен переход русской усадьбы с ее богатейшей вековой культурой из личного и семейно-владельческого — в общественное, народное, национальное достояние. В итоге истинными наследниками непреходящих усадебных ценностей становятся не помещичьи, не графские дети, а советские школьники из простых крестьянских семей.
Список литературы "Криптоусадебная мифология" в повести А.П. Гайдара "На графских развалинах"
- Богданова О.А. Невидимые звенья «усадебного сверхтекста» // Вестник славянских культур. 2023. Т. 69. С. 224-236.
- Богданова О.А. Усадьба и дача в русской литературе XIX-XXI вв.: топика, динамика, мифология. М.: ИМЛИ РАН, 2019. 288 с. (Серия «Русская усадьба в мировом контексте». Вып. 1).
- Богданова О.А. Феномен «усадебности» и контекстуальный подход к литературной усадьбе начала XXI в. // Ученые записки Орловского государственного университета. 2024. № 3 (104). (В печати).
- Гайдар А.П. На графских развалинах: повесть // Гайдар А.П. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 4. М.: Детская литература, 1973. С. 183-256.
- Гайдар А.П. Собрание сочинений: в 3 т. Т. 3. М.: Правда, 1986. 448 с.
- Глухова Е.В. Готический модус «усадебного текста» русского модернизма // Русская словесность. 2020. № 6. С. 26-36.
- Дмитриева Е.Е., Купцова О.Н. Жизнь усадебного мифа: утраченный и обретенный рай. М.: ОГИ, 2008. 528 с.
- Злочевский Г.Д. Общество изучения русской усадьбы: его деятельность и руководители (1920-е годы). М.: Институт Наследия, 2011. 368 с.
- Камов Б.Н. Аркадий Гайдар. Мишень для газетных киллеров. 330 с. URL https://vk.com/doc514215276_665183868?hash=Rvz3lYhzFBEplABnBYQJEDMX vxlpLnqTtCELf9hLXqk&dl=PmCDe95XSY6a9KkNd2XE5YokM8YkWbw4xXst9jZ uLso (дата обращения 10.06.2024).
- Малясова Г.В. Подмосковные музеи-усадьбы во второй половине 1920-х гг. // Русская усадьба: сборник ОИРУ. Вып. 13-14 (29-30). М.: Улей, 2008. С. 74-83.
- Нащокина М.В. Русская усадьба Серебряного века. М.: Улей, 2007. 631 с.
- Чулков Г.И. Сочинения. Т. 1. Рассказы. СПб.: Шиповник, [1911]. 222 с.