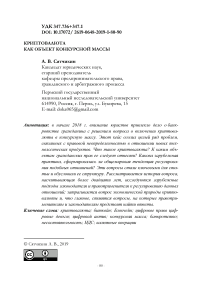Криптовалюта как объект конкурсной массы
Автор: Сятчихин А.В.
Журнал: Ex jure @ex-jure
Рубрика: Гражданское, семейное и предпринимательское право
Статья в выпуске: 1, 2019 года.
Бесплатный доступ
В начале 2018 г. внимание юристов привлекло дело о банкротстве гражданина с решением вопроса о включении криптовалюты в конкурсную массу. Этот кейс оголил целый ряд проблем, связанных с правовой неопределенностью в отношении новых технологических продуктов. Что такое криптовалюта? К каким объектам гражданских прав ее следует отнести? Какова зарубежная практика, сформировалась ли общемировая тенденция регулирования подобных отношений? Эти вопросы стали ключевыми для статьи и обусловили ее структуру. Рассматривается история вопроса, насчитывающая более двадцати лет, исследуются зарубежные подходы законодателя и правоприменителя к регулированию данных отношений; затрагивается вопрос экономической природы криптовалюты и, что главное, ставятся вопросы, на которые правоприменителям и законодателям предстоит найти ответы.
Криптовалюта, биткойн, блокчейн, цифровое право цифровые деньги, цифровой актив, конкурсная масса, банкротство, несостоятельность, ндс, валютные операции
Короткий адрес: https://sciup.org/147226690
IDR: 147226690 | УДК: 347.736+347.1 | DOI: 10.17072/2619-0648-2019-1-80-90
Текст научной статьи Криптовалюта как объект конкурсной массы
Лекарство может оказаться опаснее самой болезни.
Френсис Бэкон
«О смутах и мятежах», 1625 г.
«Насколько эффективно мы сможем использовать колоссальные возможности технологической революции, как ответим на её вызов, зависит только от нас. И в этом смысле ближайшие годы станут решающими для будущего страны. Подчеркну это: именно решающими. Дело в том, что скорость технологических изменений нарастает стремительно, идёт резко вверх. Тот, кто использует эту технологическую волну, вырвется далеко вперёд. Тех, кто не сможет этого сделать, она – эта волна – просто захлестнёт, утопит»1, – с такими словами Президент РФ обратился к представителям за- конодательной власти страны в 2018 году. Значение этих слов трудно переоценить – именно они, как предполагается, должны задать ключевой вектор работы Федерального Собрания РФ на будущие годы.
Между тем с подобными вызовами технологической революции уже сегодня сталкиваются отечественные суды. Так, в самом начале 2018 г. Арбитражный суд г. Москвы вынес ставшее уже хрестоматийным определение в рамках разбирательства по делу № А40-124668/17-71-160 Ф2. Напомним, суд признал, что в настоящее время понятие и правовой статус криптовалюты не определен, а содержание отношений, связанных с оборотом криптовалюты, не позволяет применить к ним по аналогии нормы, регулирующие сходные отношения. Кроме того, суд признал, что, исходя из прямого толкования норм права, криптовалюта не относится к объектам гражданских прав и на территории РФ находится вне ее правового поля. Позже Девятый арбитражный апелляционный суд признал это определение незаконным и подлежащим отмене3. При этом апелляционный суд отметил, что «ходатайство о разрешении разногласий подлежит удовлетворению путем обязания Царькова И. И. передать финансовому управляющему доступ к криптокошельку (передать пароль) для пополнения конкурсной массы»4.
Примечательно, что в юридической литературе и соответствующих профессиональных кругах обе позиции судов нашли как своих сторонников, так и противников. Без преувеличения можно сказать, что данный спор продемонстрировал различие в позициях относительно природы криптовалюты не только в судах разных инстанций, но и в соответствующих профессиональных кругах.
История вопроса. Не секрет, что подобные разногласия имелись и в прошлом. Так, с момента резкого скачка курса биткойна в 2017 г. тема криптотехнологий стала привлекать к себе внимание не только финансистов и программистов, но и представителей публичной власти большинства стран. В России за считаные месяцы было представлено около десятка законопроектов, регулирующих отношения по поводу цифровых финансовых активов и их эмиссии (майнинга). Самые обсуждаемые из них – проект федерального закона от Минфина5 и Центрального Банка РФ6, их совместный законопро- ект7, законопроект Ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ)8, а также ряд законодательных инициатив представителей нижней палаты Федерального Собрания РФ9.
Любопытно, что вопрос о законодательной регламентации этих отношений (пусть и в более общем виде) ставился на Западе еще 20 лет назад10. В то время Франция, в нарушение принципов открытой рыночной экономики (european open market principles), пыталась «провести» законопроект, обязывающий всех пользователей криптографической продукции, включая транснациональные корпорации, передавать третьим лицам, перечень которых бы утверждало правительство страны, свои приватные ключи – часть кода, являющегося идентификатором владельца криптокошелька. К слову, доступ к такому приватному ключу (в отличие от второй части кода – публичного ключа) предоставляет возможность управления всеми активами кошелька. Иными словами, конфиденциальность приватного ключа обеспечивает сохранность всех активов, хранящихся на криптокошельке. Именно поэтому основным объектом хищений в криптопространстве выступают те самые приватные ключи (именно об этих приватных ключах и шла речь в вышеназванных судебных постановлениях).
Заметим, что с момента принятия в первом чтении законопроекта «О цифровых финансовых активах» дискуссия относительно природы и определения соответствующего ей порядка регулирования криптовалюты не сошла на нет, а скорее перешла в новый формат. Так, на сегодняшний день в Государственной Думе РФ насчитывается около 1,5 десятка депутатских групп, имеющих свое видение относительно поставленных вопросов, от решения которых зависит дальнейшая судьба внедрения криптотехнологий на территории нашей страны.
Безусловно, эффективность регулирования отношений в названной сфере напрямую зависит от понимания природы криптотехнологий и ее про- дуктов, в частности криптовалюты. В то же время ряд действий со стороны как законодателя, так и правоприменителя, на наш взгляд, свидетельствуют об обратном – непонимании существа рассматриваемых отношений. Так, деструктивным видится законодательная инициатива со стороны Минкомсвязи, касающаяся преследования эмитентов криптовалюты (майнеров) и создания специальной системы их вычисления по структуре потребления электроэнергии и интернет-трафика11. Признание такого рода деятельности предпринимательской, жесткая фискальная политика в отношении новых и перспективных технологий, введение презумпции занятия майнингом в отношении выявленных по указанному выше алгоритму (вкупе с условностью метода, не позволяющего получить объективные данные без нарушения декларируемой Конституцией РФ неприкосновенности частной жизни) закономерно могут привести к двум последствиям: уходу в «серую зону» или же в другую юрисдикцию (например, занятие этой деятельностью в Беларуси).
Однако вернемся к основному вопросу статьи. Как известно, конкурсную массу составляет все имущество должника, имеющееся у него на дату открытия конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного производства, за исключением имущества, указанного в п. 2 ст. 131 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»12. При этом термин «имущество» в отечественной судебной практике по делам о банкротстве трактуется расширительно13.
Подходы к криптовалюте в различных странах . Закономерен в этой связи вопрос об отнесении криптовалюты к имуществу с точки зрения его экономической и правовой природы. Для разрешения этого вопроса считаем уместным обратиться к зарубежному опыту отнесения криптовалюты к той или иной категории. Как известно, на сегодняшний момент в мировой практике не сложилось единого подхода по этому вопросу. При этом анализ законодательства разных стран позволяет нам выделить две группы сложившихся подходов: «отрицательный» (неотнесение криптовалюты к какой-либо категории) и «положительный» (напротив, государство признает криптовалюту в качестве того или иного объекта гражданских прав).
Так, в качестве примеров отрицательного подхода могут послужить Тайланд, где криптовалюта не признается средством платежа, а также Бразилия и Колумбия, официально отрицающие за ней качества финансового акти- ва. Примерами же положительного подхода служат: Китай и Объединенные Арабские Эмираты, признавшие криптовалюту в качестве товара; Великобритания, считающая криптовалюту в качестве долговой расписки; Германия, признавшая ее в качестве расчетной денежной единицы; Филиппины, Швеция, Япония и Беларусь (для резидентов Парка высоких технологий), признавшие виртуальную валюту законным средством платежа; Швейцария, приравнявшая криптовалюту к иностранной валюте; Новая Зеландия, признавшая криптовалюту в качестве платежной системы; Норвегия, признавшая последнюю в качестве биржевого актива; а также Канада, Финляндия, Мексика, Норвегия, Израиль и США, приравнявшие в целях налогообложения криптовалюту к имуществу.
Заметим при этом, что страны, вводящие те или иные ограничения на оборот криптовалюты, по общему правилу, не ограничивают их свободное обращение среди граждан (запреты или ограничения вводятся для финансовых организаций).
Таким образом, можно заключить, что на сегодняшний день мы не встречаем единства официальных позиций относительно правовой природы криптовалюты не только в России, но и в мире.
Немного об экономической природе криптовалюты . Что же касается этого аспекта криптовалюты, то мы придерживаемся позиции отнесения последней к т. н. «частным деньгам»14, концепция которых была разработана еще в 70-е годы прошлого столетия, или, с позиции исключительного права государства на эмиссию денежных средств, – к денежным суррогатам15. Появление же криптовалюты связывается нами с развитием и внедрением криптотехнологий и блокчейн-технологий, что обусловило тенденцию децентрализации денежной эмиссии и разгосударствления сферы денежного обращения, иными словами, потерю государством монополии на эмиссию и обращение денег.
Возможность признания криптовалюты в качестве средства обмена или, в случае выхода за рамки бартера, денег или валюты (как содержательно, на наш взгляд, наиболее близких экономических категорий) зиждется на общем подходе к этим категориям Международного валютного фонда. Так, МВФ, как правило, не связывает понятие денег (валюты) с их эмиссией со стороны конкретного государства. Напротив, в статьях и докладах МВФ за последние годы разграничиваются виды валют в зависимости от их эмиссии:
-
А. В. Сятчихин ___________________________________________________________________ виртуальная валюта (virtualcurrency) и традиционная, провозглашенная государством-эмитентом в качестве законного средства платежа и обеспеченная лишь доверием эмитенту фиатная валюта (fiatcurrency)16.
Иными словами, в общемировом подходе главным при рассмотрении понятия денег выступает цель их использования – это имеющее обращение в гражданском обороте средство обмена. При рассмотрении же понятия валюты вводится лишь один дополнительный признак – ее обращение на территории конкретной страны. При этом в обоих случаях отсутствует обязательная связь с публичным эмитентом. Признание криптовалюты в качестве денег и/или валюты с этой позиции не находит, на наш взгляд, никаких препятствий.
В то же время при соотношении признаков криптовалюты с легальными определениями денег и валюты, действующими на территориях отдельных стран, аналогичный вывод мы сделать не можем. В частности, это подтверждается и анализом вышеназванных судебных постановлений, вынесенных отечественными судами в 2018 г.
Зарубежная судебная практика . Интересно в этой связи проанализировать первую судебную практику по отнесению криптовалюты к тому или иному объекту гражданских прав в различных странах и, соответственно, сравнить ее с практикой отечественной.
Пять лет назад, в 2013 г., в штате Техас рассматривалось дело Sec. &Exch. Comm'nv. Shavers 17об обвинении основателя крупнейшего онлайн-инвестиционного фонда Bitcoin Savings & Trust в обмане своих клиентов. В этом деле судья Амос Маццант (AmosL.Mazzant) признал, что криптовалюту (биткойн) можно использовать как деньги, поскольку ее можно использовать для покупки товаров или услуг. Криптовалюта ограничена лишь в одном – местами ее принятия в качестве валюты. Но в то же время криптовалюту можно обменять на фиатную валюту (т. е. на привычные доллары США, евро, иены и юани). В итоге техасский суд пришел к выводу, что криптовалюта в зависимости от условий представляет собой валюту, форму денег и ценную бумагу.
В другом известном деле, рассмотренном окружным судом США по Южному округу Нью-Йорка в 2014 г.18, криптовалюта была признана в качестве денежных средств, поскольку та без труда может быть обменена на традиционную валюту, применяется как мера стоимости и используется для осуществления финансовых операций. В результате суд признал применимым к преступной деятельности Росса Ульбрихта (Ross William Ulbrich) – создателя знаменитой платформы черного рынка Silk Road законодательствао борьбе с отмыванием денег.
Спустя два года тот же суд в деле UnitedStates v. Murgio 19также признал криптовалюту в качестве денежного средства, однако за два месяца до принятия решения по этому делу, 22 июля 2016 г., суд штата Флорида пришел к противоположному выводу о том, что криптовалюта не может быть признана в качестве денежных средств20. В любом случае сейчас, повторим, Налоговая служба США (Internal Revenue Service) признает криптовалюту в качестве облагаемого налогом имущества21.
Правоприменительная практика ряда европейских государств придерживается несколько иных позиций. Так, Голландский суд 20 марта 2018 г., разбирая в рамках процедуры банкротства дело о ненадлежащем исполнении договора купли-продажи криптовалюты, признал последнюю в качестве товарного средства обмена22. При этом суд квалифицировал правоотношения между должником и кредитором как обязательство об оплате. Ранее, в июне 2014 г., тот же суд признал криптовалюту в качестве товарного средства обмена, сравнив последнюю с золотом, а также установил ее несоответствие общим определениям понятий «денег» и «электронных денег»23.
22 октября 2015 г. Европейский суд (ECJ) в рамках разбирательства по делу Skatteverket v. David Hedqvist24установил, что криптовалюта не может иметь никакую иную цель, кроме как представлять собой средство платежа наравне с традиционными фиатными валютами. Ее использование аналогичным образом и наравне с иными средствами платежа также свидетельствует о признании ее одним из средств платежа. При этом для целей налогообложения все валютно-обменные операции с криптовалютой должны освобождаться от уплаты НДС.
Различие в подходах к правовому регулированию критовалюты, стоит заметить, обусловлено не только правовыми традициями, принадлежностью к той или иной правовой системе и развитостью гражданского оборота, но и отличиями в сферах и целях регулирования (уголовно-правовый, финансовые, гражданско-правовые аспекты).
Таким образом, можно заключить, что в мировой практике, в отсутствие четких законодательных ориентиров, изначально правовые позиции относительно правового режима криптовалюты формируются судебными инстанциями, что, в целом, полностью соответствует логике развития правового регулирования зарождающихся новых отношений.
Отчасти это напоминает т. н. «регулятивные песочницы» (regulatory sandbox) – формирование особого правового режима, позволяющего разработчикам новых финансовых продуктов и услуг внедрять в качестве эксперимента свои продукты на определенной территории без риска нарушения действующего законодательства (как в случае с Белорусским парком высоких технологий). Заметим, что от привлекательности правового режима той или иной «песочницы» в будущем зависит инвестиционная привлекательность той или иной страны.
Отечественная судебная практика . Анализ отечественной правоприменительной практики по вопросу включения криптовалюты в конкурсную массу не позволяет говорить о формировании в России особого правового режима в отношении криптовалюты, отличного от уже сформированных в различных странах мира правовых позиций по этому вопросу. Иными словами, все имеющиеся на сегодняшний день позиции отечественного правоприменителя и законодателя относительно правовой природы криптовалюты так или иначе коррелируют с существующими в мире подходами.
При этом некоторые авторы справедливо отмечают, что вышеназванная позиция Девятого арбитражного апелляционного суда в целом соответствует концепции, изложенной в обсуждаемых ныне в Государственной Думе РФ законопроектах25. Более того, принятие этих законопроектов позволит положительно разрешить обозначенную проблему включения криптовалюты в конкурсную массу (в качестве цифрового финансового актива, информация о котором хранится на цифровом кошельке должника).
Немного о технической стороне вопроса . В то же время возникает ряд серьезных, на наш взгляд, проблем, связанных с включением в конкурсную массу такого рода финансовых активов (криптовалюты). При этом названные вопросы в рамках процедуры банкротства должны находить разрешение как по отдельности, так и во взаимосвязи.
Во-первых , на сегодняшний день насчитывается около 1200 криптова-лют26, большинство из которых используют механизм асимметричного шифрования. Последний подразумевает наличие двух ключей для проведения транзакции: закрытого (частного, приватного) и открытого (публичного). Транзакции шифруются вторым, а дешифруются – первым. Так, например, отправитель с помощью открытого ключа, привязанного к криптокошельку получателя, шифрует транзакцию, получатель, в свою очередь, дешифрует ее и получает на свой криптокошелек отправленную криптовалюту. Раскрыть данные о текущем состоянии криптокошелька и обо всех совершенных транзакциях, напомним, можно только при помощи приватного ключа. Доступ к нему имеется только у владельца криптокошелька. Каким образом суд или арбитражный управляющий может понудить должника предоставить доступ к приватному ключу его криптокошелька, разрешив вопрос, ставившийся во Франции, напомним, еще 20 лет назад?
Во-вторых , потеря приватного ключа фактически означает потерю всей криптовалюты, хранящейся на криптокошельке. К слову, по состоянию на осень 2017 г. объем таких «потерянных сокровищ» составляет около $ 21 млрд. Их на криптовалютный рынок уже не вернуть27. Что мешает должнику «потерять» доступ к приватному ключу или к криптокошельку в целом, а после проведения процедуры банкротства вновь обрести его?
В-третьих, на сегодняшний день можно выделить четыре метода хранения криптовалюты. Первый – локальные криптокошельки. Криптовалюта хранится на устройстве пользователя (смартфон, ПК), пользование осуществляется с помощью специального программного обеспечения (например, Exodus и Electrum). Второй – аппаратные («холодные») кошельки – криптовалюта находится на съемном носителе (например, KeepKey и Trezor). Третий – онлайн-криптокошельки – криптовалюта хранится в облачном хранилище или на криптобирже (например, Binance и EXMO). Четвертый – бумажные криптокошельки – адрес, QR-код и ключи криптокошелька хранятся на бумажном носителе. Каждый из способов хранения имеет свои преимущества (конфиденциальность, удобство, юрисдикция) и недостатки (возможность взлома, потери, повреждения). Преимуществами же для должника могут стать возможностидля сокрытия своего имущества и труднодоказуемость состава неправомерных действий при банкротстве.
В-четвертых , некоторые криптовалюты, такие как Monero, используют несколько приватных ключей. Должник может предоставить арбитражному управляющему приватный ключ (spendkey) для последующего включения финансового актива в конкурсную массу. Однако технология stealth-адресов и целый набор средств для анонимизации позволяют скрыть все предшествующие транзакции должника (отправителя, получателя, суммы и всю историю операций). Что помешает должнику перевести криптовалюту на другой криптокошелек и уже после этого передать доступ к приватному ключу?
Это лишь несколько вопросов, возникающих при первом приближении к теме обращения криптовалюты должника в конкурсную массу. Ответы на них правоприменителю и законодателю еще только предстоит найти. Хочется выразить надежду, что при поиске этих ответов у наблюдателя не появится желания обратиться к словам Френсиса Бэкона, с которых начинается данная статья.
Список литературы Криптовалюта как объект конкурсной массы
- Генкин А. С. Частные деньги: история и современность. М.: Альпина Паблишер, 2002.
- Lyadnova P., Dorokhova E., Whitney H. Cryptocurrencies in Insolvency: Evasive Reality // Emerging Markets Restructuring Journal. 2018. № 3.
- Monetary Policy in the Digital Age: Crypto assets may one day reduce demand for central bank money // Finance & Development. 2018. Issue. 2. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2018/06/central-bank-monetary-policy-and-cryptocurrencies/he.pdf (дата обращения: 11.11.2018).