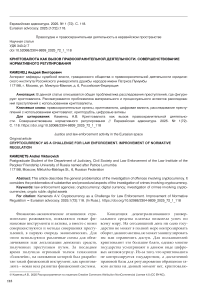Криптовалюта как вызов правоохранительной деятельности. Совершенствование нормативного регулирования
Автор: Каменец А.В.
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Правосудие и правоохранительная деятельность в Евразийском пространстве
Статья в выпуске: 1 (72), 2025 года.
Бесплатный доступ
В данной статье описывается общая проблематика расследования преступлений, где фигурирует криптовалюта. Рассматривается проблематика материального и процессуального аспектов расследования преступлений с использованием криптовалюты.
Правоохранительные органы, криптовалюта, цифровая валюта, расследование преступлений с использованием криптовалют, крипторубль, цифровые активы
Короткий адрес: https://sciup.org/140310527
IDR: 140310527 | УДК: 343.2/.7 | DOI: 10.52068/2304-9839_2025_72_1_118
Текст научной статьи Криптовалюта как вызов правоохранительной деятельности. Совершенствование нормативного регулирования
Финансово-экономические отношения стремительно развиваются, появляются новые финансовые инструменты и активы, а вместе с ними совершенствуются и методы совершения преступлений, в первую очередь экономических. Для этого используются различные схемы для обналичивания или легализации денежных средств, полученных преступным путем. За последнее время получила огромный толчок технология «блокчейн», на основании которой был разработан такой финансовый инструмент, как криптовалюта – новая веха развития финансовой системы.
Концепция децентрализованного универсального средства платежа возымела успех по всему миру. На сегодняшний день ни одно государство не может в полной мере контролировать оборот данного актива, не может манипулировать им или ограничить доступ. Для пользователей криптовалют это большое благо, однако многие государства усматривают в данном виде цифровых активов угрозу. Из-за того, что криптовалюта не контролируется государством, а достаточной правовой базы для регулирования обращения такого актива на данный момент нет, криптовалю-
ту используют и в преступных целях. К примеру, для дачи взяток или для финансирования терроризма, оплаты товаров и услуг, оборот которых запрещён уголовным законом. Проблемой для правоохранительных органов является сложность расследования преступлений, где фигурировала криптовалюта, так как она не оставляет финансового следа. Это настоящий вызов для правоохранительных органов, и пока не разработано универсальное и единственно верное решение этой проблемы.
Общая проблематика расследования преступлений, где фигурирует криптовалюта, может быть условно разделена на материальный и процессуальный аспект. Проблематика материального аспекта заключается в том, что криптовалюту не могут идентифицировать как имущество в общем понимании гражданского закона, что вызывает затруднение с квалификацией криптовалюты как предмета преступления для целей наличия состава преступления. Как отмечает Р.М. Янковский [5], криптовалюты могут быть признаны иным имуществом, а в гражданском кодексе четкого определения «иного» имущества нет. Однако для целей ряда федеральных законов, к примеру федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», цифровая валюта признается имуществом. Это говорит о некой двойственности в понимании данного объекта. Также исходя из судебной практики, которую приводит Р.М. Янковский, видно, что необходимо доказать факт перемещения криптовалюты из одного кошелька в другой, а для целей уголовного преследования такое перемещение должно быть произведено в том числе не по воле лица, владеющего этим кошельком. При этом даже если удастся доказать факт такого деяния, то возникает вопрос о размере ущерба. Как отмечает М.М. Долгиева [1], ущерб затруднительно определить, поскольку курс криптовалюты, определяемый частным криптовалютным сообществом, не является однозначным доказательством причиненного ущерба при разрешении судом вопроса о наличии состава преступления, в том числе оценке размера нанесенного ущерба. Возникают вопросы квалификации как кражи, что ставится под сомнение, так как криптовалюту затруднительно определить в качестве имущества, или же противоправные действия стоит квалифицировать как неправомерный доступ к компьютерной информации.
Процессуальный аспект выражен в сложности доказывания элементов предмета доказыва- ния, прежде всего, причастности и виновности лица в совершении преступлений. К примеру, если описывать незаконный оборот наркотиков, для которого более характерно использование криптовалют для целей выплат вознаграждения за распространение, то для правоохранительных органов первой сложностью является использование сети «Даркнет» для проведения операций с криптовалютой. Указанный ресурс позволяет пользователю использовать теневые обменные сервисы, скрыть свой айпи-адрес и иные идентифицирующие данные, благодаря чему затруднительно определить местоположение пользователя и устройство, с которого осуществлялись действия.
Второй значимый фактор заключается в том, что необходимо сопоставлять транзакции по криптокошелькам и банковским картам предполагаемых преступников, а также анализировать временные промежутки совершения операций. Этот же фактор осложняется тем, что банковские счета и криптокошельки злоумышленники открывают на третьих лиц. Еще один проблемный аспект заключается в том, что создание криптокошельков значительно проще, чем открытие банковского счета. Это обусловлено тем, что пользователь может без участия третьих лиц (банка или криптобиржи) открыть криптокошелек самостоятельно, что может привести к открытию неограниченного количества кошельков на разных лиц. Используя это, преступники для обеспечения дополнительной безопасности и сокрытия информации о совершенных транзакциях прибегают к методу перевода криптовалюты между множеством криптокошельков, изменяя суммы переводов, а конечный получатель получает необходимую сумму по частям в результате множества переводов с различных криптокошельков.
Так можно заключить, что для правоохранительных органов весьма затруднительно собрать доказательства о финансовом следе преступления, что может привести к недостаточности доказательств для обвинительного приговора в суде. Ведь помимо сложности сбора доказательств необходимо, чтобы они соответствовали требованиям допустимости согласно УПК.
Текущее регулирование криптовалют на данный момент не имеет полного характера и не представлено целым рядом нормативно-правовых актов. Действующее законодательство России стремится урегулировать данную сферу общественных отношений, и один из первых значимых шагов получил выражение в Федеральном законе «О цифровых финансовых активах» от 31.07.2020.
Именно здесь закрепляется правовое положение цифровой валюты. Важно понимать, что цифровая валюта в российском законодательстве понимается как вид криптовалют, однако это вопрос дискуссионный, поскольку существует аргументация в пользу более широкого понимания данного термина, под который подпадают не только криптовалюты, но и игровые валюты.
Но этим текущее правовое регулирование не ограничивается. Ранее в 2019 году к Гражданскому кодексу были приняты поправки, которые закрепляют, что к объектам гражданских прав также относятся и цифровые права. Помимо этого, как ранее говорилось в ряде федеральных законов, для их целей цифровая валюта признается имуществом, в качестве дополнительных примеров, помимо ФЗ-115, стоит привести Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и Федеральный закон «О противодействии коррупции». Такое точечное отражение в соответствующих актах было призвано упразднить дискуссию в судах при совершении преступлений с использованием криптовалют, что уже на текущем этапе значительно упростило деятельность правоохранительных органов. В дополнение к действиям, направленным на получение большей прозрачности транзакций, государство разработало концепцию «Цифрового рубля». Цифровой рубль предлагается определить как дополнительную форму российской национальной валюты, которая будет эмитироваться Банком России в цифровом виде, сочетающую в себе свойства наличных и безналичных рублей. Эмиссия данной формы рубля осуществляется централизованно в лице Центрального банка, что позволяет ему как эмитенту отслеживать все транзакции, проведенные таким способом. Правовое положение такой цифровой валюты также регламентируется в Федеральном законе «О цифровых финансовых активах».
Ввиду того, что дискуссионность понятия и расхождения в трактовках нормативных определений не обозреваются в настоящей статье, далее под криптовалютой будет иметься в виду только та часть криптовалютных активов, которая не соответствует требованиям, предъявляемым 259-ФЗ к цифровой валюте, как имеющая признаки цифрового финансового актива, так и не имеющая оных.
Как отмечают многие исследователи [4, 6], феноменальность криптовалюты для уголовно правовой системы заключается в её комплексном характере – объединении не так давно казавшихся несовместимыми юридически значимых качеств имущества, средства расчёта и единицы инфор- мации, не говоря уже об анонимности, необеспеченности и децентрализованности, обусловленных технической реализацией этого актива.
Исходя из этого, мы считаем, что новации нормативного регулирования, направленные на компенсацию неправомерных преимуществ, предоставляемых преступности, использующей криптовалюту в качестве средства расчёта, предмета преступления, способа противодействия конфискации, равно как и легализации денежных средств (имущества), добытых преступным путём, также неизбежно требуют использования комплексного подхода.
К примеру, существующий запрет на использование криптовалюты в качестве средства расчёта требует обеспечения его реального и неуклонного исполнения путём имплементации в уголовный закон соответствующего состава преступления. Отметим, что формулировка объективной стороны в диспозиции статьи, предусматривающей предполагаемый состав преступления, не приемлет ограничения исключительно использованием криптовалюты как средства расчёта за предоставляемые блага, но дополнительно к этому требует также учёта недопустимости безвозмездного отчуждения этого цифрового финансового актива как наиболее очевидного способа замаскировать расчёт под видом легальной гражданско-правовой сделки. Логично, что соответствующий запрет необходимо отразить в профильном законодательстве. Вопрос о противодействии отчуждения криптовалюты по притворным сделкам с ценами, существенно отличающимися от рыночных, запрета и общего регулирования таких пограничных ситуаций требует дальнейшей проработки, однако уже сейчас можно прогнозировать запрет на подобные операции с использованием осторожной и точной формулировки, способной быть надлежащим образом примененной правоохранительными органами в процессе квалификации.
С процессуальной же стороны достичь обеспечения реальной возможности органам досудебного расследования установить личности привлекаемых к ответственности владельцев криптовалюты, конечных бенефициаров и участников криптовалютных транзакций возможно, устранив такой атрибут, как анонимность, посредством введения нормативных запретов, определения особенностей функционирования организаций, опосредующих оборот криптовалюты, осуществления государственного надзора и контроля за их осуществлением.
В дополнение к сказанному регулирование в сфере посреднических услуг по обращению крип- товалюты позволит лишить практического смысла покупку старых, покинутых или, напротив, похищенных крипоткошельков у реальных, законопослушных пользователей для проведения преступных транзакций. По аналогии с общемировыми практиками идентификации и аутентификации владельцев банковских счетов для использования сервиса по обращению криптовалют целесообразным будет введение обязанности проведения подтверждения реальности сведений о держателе криптокошелька на регулярной основе.
Мы согласны с исследователями [2], отмечающими, что реализация и применение указанных норм сталкиваются с некоторыми сложностями технического характера, однако даже существующих механизмов регулирования контента, программных продуктов и веб-сервисов, нарушающих требования закона (например, блокировка интернет-ресурса по санкции суда), достаточно, чтобы существенно осложнить совершение преступления, а в некоторых случаях и вовсе предотвратить. Усложнение процедуры доступа уже само по себе является значимым фактором повышения порога входа для киберпреступности, а значит, ведет к неуклонному снижению её показателей.
В совокупности с мерами по привлечению биржи-посредника к ответственности за недостоверность сведений о владельцах криптокошельков, возложению на нее обязанности обосновать и подтвердить предоставленные идентифицирующие данные, создания и предоставления доступа государственным, и в первую очередь правоохранительным, органам к реестрам владельцев криптокошельков можно устранить большую часть преференций, предоставляемых преступнику одним только фактом использования криптовалюты.
Внедрение вышеописанных мер позволит пресечь тайный, непрозрачный и недоступный для проверки правомерности обмен криптовалюты, что позволит устранить экономическую целесообразность проведения подобного рода сделок. Легальная же часть рынка цифровых финансовых активов требует обеспечения прозрачности и отслеживаемости полной цепочки транзакций от условного продавца до конечного выгодоприобретателя. Мы согласимся с мнением ученых [3], согласно которому оптимальным подходом выступит использование уже наработанных технико-юридических механизмов учёта и контроля оборота за обращением денежных средств в безналичной форме, а также бездокументарных ценных бумаг.
К конкретным мерам организационного характера представляется необходимым отнести создание реестра операций, проводимых с криптовалютой, и хранение в нём сведений как минимум на протяжении трёх лет с момента проведения транзакционной цепи. Отдельные механизмы и меры по формированию подобного реестра уже разработаны и внедряются, в том числе на частном, негосударственном уровне [7], однако о полноценном и широком его использовании правоохранителями речи пока не идет. Межведомственное взаимодействие с использованием указанного реестра позволит существенно упростить расследование налоговых преступлений, связанных с утаиванием от контролирующего налогового органа активов с целью снижения налогового бремени, а также расследование преступлений, связанных с легализацией доходов, добытых преступным путём, финансирования терроризма и иной противоправной деятельности.
Наиболее очевидными следствиями внедрения предлагаемого нами регулирования представляется утрата легальной возможности обеспечить анонимность, а значит, неотслежива-емость движения криптовалюты. Возможность возвращения денежных средств потерпевшего от мошенничества с использованием цифровых активов, доказывание при расследовании факта хищения / обогащения или же факта получения неправомерной выгоды путём злоупотребления должностными полномочиями, фиксация факта недостоверного декларирования – вот далеко не исчерпывающий перечень социально-полезных изменений, которые можно ожидать в обозримом будущем.
При этом легальный оборот приоритетного на сегодняшний день ЦФА именно как платёжного средства – цифрового рубля не будет затронут уголовно-правовыми запретами и ограничениями.
Положительный опыт профилактики особо изощренного, специализированного вида преступности и облегчения способствования правоохранительным органам в её расследовании отслеживается на похожих примерах: включением в УК РФ в 2012 году составов, предусмотренных ст. 159.3 (Мошенничество в сфере компьютерной информации) и 159.6 (Мошенничество с использованием электронных средств платежа), что способствовало выявлению новых преступлений и осуждению виновных в последующие годы.
Таким образом, можно сделать вывод, что правовое регулирование ответственности за незаконный оборот криптовалюты в правовой си- стеме полноценно не сформулировано, равно как существуют сложности процессуального характера, осложняющие расследование преступлений, совершенных с использованием криптовалюты, привлечение виновных лиц к ответственности. Исходя из этого, ужесточение регулирования с применением комплексного подхода является одним из приоритетных путей совершенствования законодательства в данной сфере. Предложенные меры позволят снизить латентность соответствующего вида преступности, её объективные показатели, повысить прозрачность и способствуют предотвращению совершения преступлений. Конечно, существует риск того, что таким образом децентрализованные цифровые активы начнут терять свою привлекательность на территории России, и на смену придет цифровой рубль, но, с другой стороны, государство не подвергает риску финансовую и платежную системы, обеспечивая подобного рода регулирование на национальном уровне. При этом необходимо понимать, что рассматриваемая концепция не запрещает совершать сделки с децентрализованными криптовалютами за рубежом, что говорит о новой стезе развития данной сферы.